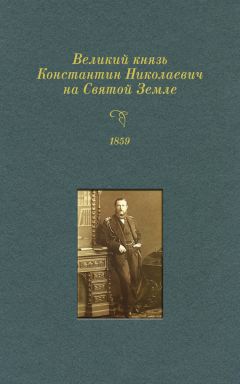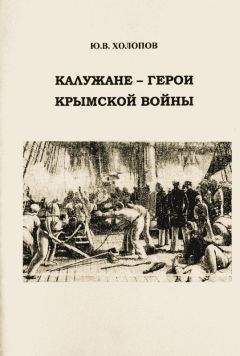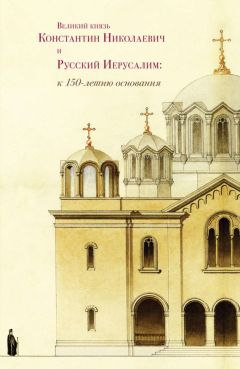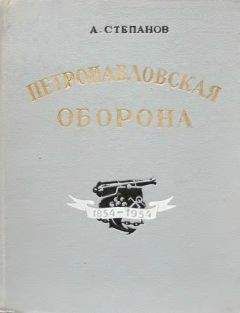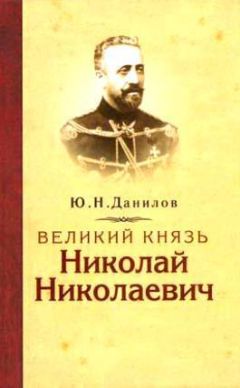Сергей Максимов - Год на севере
— Как же это?
— А хворосту, да бревен натаскает к двери-то, тем и запирает. И не выйдешь.
— Ты бы оборонялся.
— Чем обороняться-то стану? Ружья у меня нет; прячусь вон на подволоку — вся моя тут и оборона. Подурит дурак, знаю, пошалит у тебя в избе-то, поломает все, да с тем и уйдет: милует Бог!
— Зверьков, чай, ловишь тоже?
— Это бывает: горносталев ловлю; тоже псецы (песцы) приходят, лисицы...
— Чем же ты кормишься, старик, ешь что?
— А то и ем, что с проезжих сойдет: дают тоже. Летом в наших местах больно хорошо!
— Чем же, старичок?
— Да ягод уж очень много всяких растет, ну и ешь... Промышленники, что за лесным зверьем ходят, хлебушка дают: ем по праздникам!
— А не ошибаешься, в какой день праздник, в который будень?
— Бывает же и эдак, ошибаюсь!
— Кто ямщики у вас, старик?
— А земские выставляют на зиму с Мезени. Летом-то, вишь, здесь лошадями нету езды: реками плавятся, в карбасах. Есть, бают, пешие переволоки, да небольшие.
— Чья же у тебя кушня, своя?
— Нету, мирская; я, коли поломается что, от себя поправлять должон. Опять же уход за ней мой.
— Какой же уход и какая поправка?
— Правда, что нету, да и не спрашивают. Пошутил ономнясь земский начальник один, что стены-де не скоблишь: да сам же и отшутился, не пугал же больно-то: "эдакто-де лучше, коли стена коптится: изба-де меньше гниет, а ты-де, старик, не пужайся". Такой добрый!..
Готовы между тем лошади, и затем новые испытания от кушни до кушни, которые так похожи одна на другую, как две капли воды: с такими же бедными убитыми одиночеством кушниками, между которыми только ближе к Печоре стали попадаться зыряне, умеющие по-русски только выпросить подаяние и затем молчаливые на все расспросы. Говорили ямщики, что они и по зырянски-то толковать разучились.
— Туги же на разговор-от стали! Приедешь это к ним на зиму, мнут они тебе, мнут язык-от свой, чешутся-чешутся, а не приберут тебе ладного слова: сам уже смекаешь. Шибко же дичают за лето, что и наши русские, — отвыкают...
— А все-таки добрые, ласковые по-прежнему?
— Добрые, больно добрые, что дети: ни тебя они обругают когда, ни на твою брань огрызнутся: порато добрые — это что гневить Бога!
Ночью как-то вой волков разбудил меня и обдал всего холодным потом.
— Гони, ямщик, скорее: погибаем!
Ответа не было. Казалось, ямщик дремал себе беззаботно и так крепко, что не слыхал эловещего, леденящего душу воя. Лошади бежали труском.
— Гони лошадей: волки воют!
— А пущай их!
— Съедят, чудак, в клочья разорвут. Гони скорей, если дорога́ тебе жизнь! Опомнись — не спи!
— Не к нам бегут, к лесу!
Вой усиливался, но становился заметно глуще. Слова ямщика оказались правдоподобными боязнь не позволяла мне высунуться из кибитки и посмотреть по направлению к лесу и волчьему вою, чтобы убедиться в его показании. Я нашелся: ударил кнутом коренную, та брыкнула задними ногами и опять пошла прежней ровной побежкой, как бы согласная с мнением и убеждениями ямщика. Этот равнодушно обернулся назад и, еще при большем хладнокровии (поразительном и досадном), отнесся ко мне с таким вопросом:
— Нешто у вас они страшны, там... в Расее-то?
— В клочья рвут, до смерти рвут, голодные ведь они!
— Наши сытые, наши не рвут!..
Он опять замолчал.
— Гони же, братец, не спи: мне еще жизнь не надоела.
— Да ты не бойся! Что больно испужался? Наши волки человека опасаются, стреляем ведь: они от тебя бегут, а не ты... Оленей вот они режут: это водится за ними, за проклятыми, — и много оленя режут!..
Он опять помолчал, но не дремал.
— Оленя они потому режут, что он смирен, нет у него противу волка защиты никакой, разве что в ногах. Так, слышь, подкарауливает серый черт, — на цыпочках подкрадывается и режет. А то бы человека?! Сорок годов живу, не слыхивал, чтобы этого, никогда... девоньку вон с братишком на трунде (тундре) комары заели — это было. Комаров у нас по летам живет несосветимое много: деться некуда.
— Знаю, сам испытал!..
Ямщик глубоко вздохнул, но в прежнем показании своем был справедлив: вой волков стих мало-помалу и затих совсем, когда мы съехали со снежной поляны (оказавшейся, по словам ямщика, замерзшим и закиданным снегом озером), в лес, по обыкновению поразительный своей тишиною и мрачным видом. Выглянувшая из облаков луна позволила разглядеть, по указанию ямщика, дремавшую на придорожном сучке птицу, которая оказалась глухарем, по-здешнему — чухарем.
— У нас, вишь, и птица не пуглива, не токмя...
— Тебе бояться нечего — ты привык. Теперь и я похрабрее буду.
— Медведей ты бойся: эти ломают, так и те теперь в берлогах спят. Летом они хрустят же по Тайболе, так мы сюда и глаз не кажем на ту пору. Бить их в наших местах — не бьют...
— Отчего же не бьют?
— А как ты его досягнешь?! Тайбола-то ишь какая, долгая,. да широкая; на низ-то она к тундре подошла, а вверх так ей, сказывают, и конца там нет.
— Хороший, кажется, лес по ней вырос?
— Какой хороший! С виду — так пожалуй, а то нет — дряблый лес: на болотинах растет, где ему хорошим быть; пущай вон по суходольям который поднимается — ничего, живет, матерой есть. А много ли тебе суходольев? Все, гляди, мшина, да болотина, да зыбь, что человека в иных местах не держит. Озер опять насыпано по тундре-то по этой и невесть кое число; и живут крепко же большие, верст по тридцати бывают.
— И рыбы в них, чай, много?
— Где же без рыбы? Известно, много рыбы: щук, окуней, лещей. да не ловят, разве которое озерко к кушне подошло, так кушники. берут же про свое про удовольствие, а то нет, чтобы...
— И птицы ведь много?
— Много, и — несветимая сила! — много!
— И ее не бьют?
— Где же всю-то перебьешь? да и кому бить-то? Вон там, по Мезени, кладут путики* и много же этих путиков и у Печоры живет, да где ее всю перебьешь?
— Вот, видел даве чухаря? Сидит и глазом не двинет, словно человека-то он я не видал, словно человек-от ему и не страшен...
Послышался лай собаки, тот радостный привет, который бесконечно страден и дорог во всех тех случаях, когда утомляешься долгим и скучным путем и ждешь не дождешься теплого угла, хотя бы, пожалуй, курного и грязного.
На лай этот отозвался и ямщик, обратясь ко мне с замечанием:
— Вон, собаки наши чуткие каки: за версту слышат. С виду ты им ломаного гроша не дашь: хохлатенькая такая да маленькая: да и все тут... Ан нет! На охоте за птицей ли, за зверем ли — золотой человек!
— Привыкли, братец! Живут на лесу, около зверей, Да с толковыми охотниками, вот и выучились!
— Оно, пожалуй, что и от этого!
Лай собаки и на этот раз не обманул нас: впереди уже чернела, как большая серая куча, кушня, до половины в снегу, вся целиком закоптевшая, с кушником у дверей, который опять-таки, по обыкновению, подошел попросить на бедность и, взявши свое, ушел в избу. Изба на этот раз оказалась хорошею: в ней можно было напиться чаю и не задохнуться от дыма.
— Отчего, старик, у тебя в кушне-то не чадно?
— Чадно же живет, как топить начнешь. Теперь, вишь, скутал (закрыл), так, надо быть, оттого.
Коротенький декабрьский день, с двумя часами света и часом бледного просвета на утре и в сумерки, приходил к концу. Вскоре выплыла луна... Вспоминаются еще две кушни, слышались брань и крики ямщиков и робкий голос кушника, просившего на хлеб. Я просыпался и опять засыпал до новых криков на сбившуюся с дороги переднюю лошадь и требований прогонов, на водку. Это была последняя, третья ночь моего путешествия по Тайболе.
Проснувшись на рассвете, я уже видел перед собой, верстах в трех от нас, огромное раскиданное селение с двумя церквами и перед ним большую снежную поляну. Мы спустились под гору.
— Ямщик! рекой, кажется, едем?
— Печорой.
— А впереди Усть-Цильма?
— Она самая и есть.
2. УСТЬ-ЦИЛЬМА
История заселения этого места. — Мой хозяин и раскольники. — Предания — Рассказы о ловле семги, — Очереди и общины. — Суда-каюки. — Поплавня. — Чердынцы. — Быт усть-цилемов. — Свадьбы. — Раскольяицы. — Легкие краны.
Существование Усть-Цильмы как селения не восходит дальше времен Грозного. По двум сохранившимся грамотам его видно, что основателем слободки Цилемской, при впадении реки Цильмы в Печору, был новгородец Ивашко Дмитриев Ластка, которому и дан "на оброк на Печоре на Усть-Цильме лес черный", с правом "на, том месте людей называти, жити и копити на государя слободу, а оброку ему платити в государеву казну на год по кречету или по соколу, а не, будет кречета или сокола, ино за кречета или сокола оброку рубль", на том основании, "что по тем речкам лес-дичь и пашен, и покосов, и рыбных ловищ исстари нет ничьих и от людей далече, верст за пятьсот и бодьше". "А кто у того Ивашка, — говорит грамота дальше, — в слободе при езжих людей учнет жить сильно, а ему не явился, и он с того емлет про мыты на великого князя рубль московский". Богатство края — рыбные ловища и кречатьи, и сокольи садбища (по словам грамоты), и лес-дичь (не початый) — породило Ластке противников: кеврольцев, чакольцев и мезенцев, из которых некоторые знакомы уже были с Печорою и ее богатством прежде — словили рыбные ловли наездом, — как говорит вторая грамота в другом месте. Эти придумали хитрость, хотя и весьма неловкую: они задержали Ластку на пути в Москву, у себя на Пинеге, отправив вперед своих приспешников ходатайствовать у царя об новой грамоте для себя исключительно, В марте посланные явились в Москве с челобитьем и сказом "про Ивана про Ластку, что его без вести нет" и что они готовы дать оброк за два года вперед по три рубли на год. В апреле приехал и Ластка, и к прежнему оброку надбавил еще рубль против противников своих. Решено было тем, что Печора осталась за Ласткою "потому что, как сказано в грамоте, нас те кеврольцы и Чакольцы и мезенцы Вахрамейко Яковлев с товарищи оболгали, что Ивашки Ластки без вести нет, а давати ему оброку царю и великому князю на год в нашу казну по четыре рубли московских". На обороте подпись Грозного, и следует приписка, из которой видно, что пинежане на новый оброк Ластки наложили еще свой рубль, но Ластка и тут не уступил: Печора осталась-таки за ним за шесть рублей оброку в год. Это и засвидетельствовано скрепою такого знаменитого окольничьего, каким был друг Грозного царя Алексей Федорович Адашев.