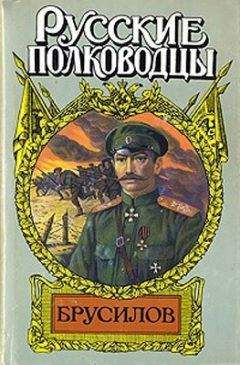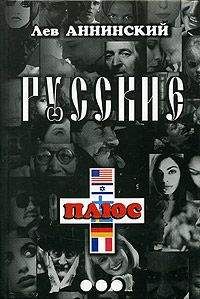Юрий Слёзкин - Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера
Литературные версии Большого путешествия были масштабнее научных: в основе их лежала всеобъемлющая метафора мировой эволюции и советской истории, ведущих к механизированному — и все более индивидуализированному — совершенству. Соответственно, по мере того как «последний и решительный бой» уходил все дальше в прошлое, каждое обращение к современности сталкивалось с чрезвычайно трудновыполнимой задачей изображения совершенства. Этнография земного рая застопорилась в 1960-е годы; литературный вариант, который не мог быть статичным, оказался в еще более тяжелом положении.
Зло в любом виде стало временным явлением: его агенты прокрадывались из преисподней (из-за границы) и немедленно по обнаружении изгонялись обратно, в то время как доморощенные отклонения от всеобщей добродетели были либо рецидивами прошлого, либо свойствами личного темперамента. Новая жизнь коренных народов сводилась к вещественным доказательствам их благополучия, среди которых бросались в глаза дома русского типа, школы-интернаты, больницы и клубы; домашняя обстановка с яркими занавесками, пишущими и швейными машинками, круто посоленными блюдами русской кухни на «тщательно отглаженной скатерти»; хорошо образованные и довольные жизнью люди, гордящиеся успехами своего колхоза, русскими стрижками и импортной мебелью{1372}. Если о чем-то и спорили, то «не по-плохому, а по-хорошему: …не знают, что купить на заработки»{1373}. С.М. Бытовой в романе «Поезд пришел на Тумнин» предложил замечательную метафору для литературной трансформации коренных народов. Если в прошлом большинство взрослых орочей вели себя как дети, то теперь символическим центром поселения и «предметом гордости обитателей бывшего стойбища» был дом престарелых: «Старейшие и, значит, самые уважаемые люди родов живут в этом светлом, просторном доме, обеспеченные всем необходимым. Государство кормит их, одевает, лечит их, заботится о том, чтобы ничто не омрачило их старость»{1374}.
На досуге старики учатся читать, работают на добровольных началах, шьют теплые унты для товарища Сталина и подписывают призывы к борьбе за мир во всем мире. Даже шаман, который раньше пугал сельских ребятишек, бросает свои проделки и позволяет внучке сдать его халат и священные «костяные побрякушки» в местный музей{1375}.
Если такова была завязка произведения, то каким же должен быть конец? Куда идти из земного рая? Можно было найти прибежище в фольклоре образца 1930-х{1376}, но нельзя было уклониться от главной обязанности писателя — «правдиво отражать жизнь». Поэтому в 1960—1970-е годы «легендам» и историческим сюжетам о Большом путешествии пришлось уступить место жанру, который можно обозначить как Малое путешествие — повестям и рассказам о самом последнем пережитке или о частном случае неукрощенной стихийности, основанном на конфликте между просто хорошим и хорошим во всех отношениях. Исходный тезис этого жанра иллюстрируется диалогом из повести Семена Курилова «Увидимся в тундре»: «Совсем хорошо юкагиры стали жить», — говорит молодой человек, вернувшийся домой после армии. «“А надо бы еще лучше”, — сказал секретарь райкома»{1377}.
Каждый рассказ описывал последний маленький шаг к сознательности, культуре и обрусению. В отсутствие злодеев, речь шла о духовном путешествии одного героя (и практически никогда — героини), о том, как он очищается от следов отсталости. Бывший шаман бросает своих деревянных идолов под трактор, чтобы помочь русскому шоферу выбраться из кювета; старый патриарх превращается в домохозяйку, чтобы поддержать свою дочь — рекордсменку труда; умирающий охотник пренебрегает древним запретом, чтобы привести своего сына-геолога к богатому месторождению в тундре; старый колхозник ловит рыбу в табуированном месте и возвращается с фантастическим уловом; пожилая супружеская пара обретает счастье после переезда в дом русского типа; молодой мужчина осознает истину, когда русский врач спасает его жену и новорожденного ребенка, которых едва не погубили традиционные ритуалы; а юные влюбленные женятся, хотя оба принадлежат к одному и тому же экзогамному клану. Встречались и истории, которые предполагали полное национальное равенство «по содержанию» и присматривались к последним складочкам на «тщательно отглаженной скатерти» советской жизни без каких-либо упоминаний о туземном происхождении героев. Задача героев состояла в том, чтобы выдержать испытание «в труде и личной жизни» и таким образом очиститься от всех подозрений в ребяческой импульсивности или старческом самодовольстве{1378}.
Переведенное в категорию «исторического романа» Большое путешествие утратило внутреннюю цельность. Если в 1930-е годы большевик с лукавыми морщинками у глаз без особого труда выполнял роль отца туземцев, то его голубоглазому послевоенному преемнику пришлось работать патриархом, когда все вокруг начали сочетать полезное с приятным, а он сам оказался вовлеченным в интимную жизнь своих подопечных. К 1970-м его кровь взыграла, и он начал проявлять признаки внутреннего волнения. Большевик в романе Истомина, например, дуется и мучается, пока его чуть не соблазняет обольстительная дочь кулака{1379}. В последний момент он одумывается («Разной мы с нею веры!.. Я большевик, из трудящего народу! А она богатейка, дочь врага народной власти»), но магическая сила и внутренняя цельность покидают его навсегда. Как бы тверд ни был сам большевик, он ничего не мог поделать с тем эффектом, который производил на туземных женщин. Все чаще решение дерзкой амазонки мобилизовать местное население на поддержку русского объяснялось ее романтическим интересом к герою: «С кем ты пойдешь, с тем и я пойду. С тобой рядом идти хочу»{1380}. Даже безупречно аскетичный и асексуальный Ушаков из романа Рытхэу не мог не заметить того электризующего эффекта, который вызвало его появление перед эскимосами: «“Мои дорогие друзья и товарищи”, — начал Ушаков и оглядел слушателей. Ему показалось, что Нанехак как-то странно встрепенулась, и легкая улыбка скользнула по ее округлому, еще не потерявшему детские черты лицу»{1381}.
Все последующее представляет собой значительное новшество в построении сюжета. Нанехак, будучи замужем за бесцветным, но добродетельным персонажем, становится лучшей ученицей Ушакова, но ее преданность основана на физическом влечении и потому потенциально разрушительна. Модель отношений между русскими и туземцами, много раз воспроизводившаяся в Больших путешествиях, предполагала, что русский должен быть богоподобным, а туземцы должны достичь состояния полного блаженства. В «Острове надежды» эти два условия невозможно было выполнить одновременно: либо он должен был лишиться святости, либо она и ее народ должны были остаться неудовлетворенными.
Решение было предложено христианством, верным союзником советских мифотворцев. Во время охоты на морского зверя Ушаков падает в ледяную воду, но его спасает Нанехак, которая (в присутствии мужа) раздевается и согревает Ушакова своим телом. Вскоре после этого она беременеет и объявляет, что отец ребенка — Ушаков. Читатель, муж и сам Ушаков знают, что это неправда («У нас ведь с тобой ничего не было», — протестует он), но Нанехак это не смущает. Она рожает сына и называет его в честь Ушакова, который председательствует на церемонии «советских крестин». Большевик остается божественным, а амазонка полностью удовлетворена. Первый плод русско-эскимосского союза происходит от непорочного зачатия.
Подобные развязки были малоубедительны в то время, когда большинство ученых и беллетристов начали сомневаться в непогрешимости большевика-наставника. Превратился ли он в бюрократа или наломал «слишком много дров», так или иначе, его охватили сомнения и раздумья{1382}. По крайней мере в двух романах о Большом путешествии русский герой влюбляется и поддается соблазну{1383}. Но, перед тем как это произойдет, девушка должна перестать быть верной ученицей и пустым сосудом: если он должен пасть, она должна стать воистину непреодолимым искушением; если он должен сойти с отцовского пьедестала, она должна перестать быть ребенком и приобрести самостоятельную ценность и тайну. Решительно опрокинув соцреалистическую туземную иерархию, но во всем прочем оставив структуру Большого путешествия нетронутой, Н.Л. Кузаков и Ж. Трошев делают ее шаманкой. Вместо того чтобы восставать против гнета древних традиций своего племени, она становится их жрицей и хранительницей, «хозяйкой тайги». И какой хозяйкой — ослепительно прекрасной, грациозной, гордой! «В черных глазах — молнии, на груди вздрагивают косы, позванивая монетами, жесты энергичные, повелительные»{1384}.