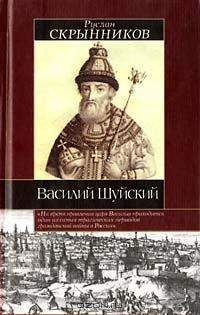Пантелеймон Кулиш - Повесть о Борисе Годунове и Димитрии Самозванце
И Борис не долго был спокоен на престоле, не смотря на явную приверженность к нему граждан московских и выборных из городов и войска. Он знал, как, тяжело было некоторым родовитым боярам уступить престол человеку незнатному родом и видеть торжество соперника. Безмолвная покорность их не успокаивала, а скорей пугала его. Недоверчивый, как все лицемеры, он не мог в этой излишней покорности не подозревать спокойствия мстителя, нашедшего наконец верное, хоть и отдаленное, средство мести. Подозревал, догадывался, и не мог догадаться: средство было слишком необыкновенно. Опасаясь, однакож, час от часу более и более, за себя и за детей, любимых с горячностью необыкновенною, он решился не щадить никого, если только представится повод к подозрению. И вот доносят ему, что Богдан Бельский, которого он послал в степи строить новую крепость, Борисов, величает себя независимым владетелем степей, царем Борисовским. Как ни груба была эта клевета, но Годунов имел уже в уме несколько злобных заметок о Бельском. Бельский был в дружеских отношениях с Романовыми [21], имевшими на престол ближайшее право; отличаясь редким умом, он мог придумать с ними что-нибудь опасное. Он же, притом, явно ненавидел и часто обижал служащих при дворце иностранцев, которых Борис справедливо считал вернейшими своими слугами: с чего это, если не с злого умысла против царя? Веря или не веря упомянутому доносу, Борис рад был случаю освободиться от старого крамольника и поручил суд над ним верховной думе. Там почти все не любили временщика царствования Иоаннова, несносного своею гордостью и ненавистного за умственное превосходство. Дума приговорила его к смерти; но Борис оказал милость: велел шотландцу Габриелю, личному врагу Бельского, выщипать ему по волоску густую, длинную бороду, и потом сослал в Сибирь, а имение его описано в казну.
Такой злобный поступок, унижавший достоинство правосудия царского, естественно должен был произвесть между боярами сердитые толки. Но, может быть, с Бельским так и поступлено для того, чтоб вывесть кой-каких опасных людей из терпения. Угадывая тайное желание тирана, некто Воинко, холоп князя Шестунова, обвинил явно своего господина в злом умысле против царя. Но Борису не Шестунова было нужно: у него тяжелым камнем лежал на сердце знаменитый род Романовых, и он придумал, наконец, как до него добраться. Не тронув Шестунова, велел сказать Воинку на площади, перед всеми людьми, милостивое слово государево, дать поместье и причислить к городовым детям боярским. Эта постыдная награда породила бесконечный ряд доносов. Низкие люди поняли несчастную болезнь Борисова сердца, и доносители появились толпою изо всех сословий: доносили священники, монахи, пономари, просвирни, доносили даже жены на мужей и дети на отцов. Брат с братом и отец с сыном боялись говорить откровенно; после доверчивого разговора брали друг с друга клятву не доносить. За ложные доносы не было наказаний, а за справедливые, то есть, признаваемые справедливыми, почти всегда давали деньги и поместья. Обвиняемых хватали, подвергали пытке, замучивали иногда до смерти, многих заточали в темницы, многих умерщвляли ядом, а иных тайно топили в воде. Ни при одном государе, говорит летописец, не было таких бед!
Полиция Годунова навела ужас на всех тайных врагов его; но они оттого сделались только осторожнее. Зная, что могут пострадать и без улики, смелей обделывали отважное свое дело и, посреди шпионов, воспитывали против Бориса самозванца. Подозрительный царь догадывался, что у бояр что-то задумано; он выводил это из тысячи разноречащих доносов, к которым жадно прислушивалось его раздразненное ухо; но что именно они задумали и кто тут главные деятели — до этого никак не мог докопаться. Зная однакож, что падением его, если б оно свершилось, должны воспользоваться Романовы, как ближайшие престолонаследники, предполагал, что, если не они сами, так другие для них работают, и потому решился погубить Романовых вместе с их близкими родными и приятелями. Вскоре донесено царю, что у Александра Никитича Романова найден в кладовой мешок с ядовитыми кореньями. Летописец уверяет, что этот мешок был положен туда его дворецким, по наущению царского родственника, боярина Семена Годунова. Как бы то ни было, но этой находки было довольно, чтоб обвинить Романовых в умысле на Борисову жизнь. Всех шестерых братьев тотчас схватили и, когда привели к допросу, царские приближенные, угождая своему владыке, осыпали их ругательствами и подняли такой крик, что не слыхать было и ответов подсудимых. В то же время взяты под стражу многие родственники и друзья Романовых. Долго шли пытки и допросы; замучено несколько верных слуг боярских; пытали и самих Романовых; ничего не узнали, однако остались при нелепом убеждении, что Романовы хотели извести царя волшебными средствами, и низкие ласкатели еще славили Бориса за милосердие, когда он, вместо казни, осудил несчастных на заточение в отдаленные от столицы места. Приговор этот был исполнен в июне 1601 года. Старшего из Романовых, Фёдора Никитича, постригли, под именем Филарета, в монахи, чтоб лишить его всякого права на престол, и заточили в Архангельской области, в Сийском монастыре, под строжайшим надзором царского пристава. Жену его, сына и братьев развезли по разным отдаленным концам России. Та же участь постигла зятя Фёдорова, князя Бориса Черкаского, — сына его, князя Ивана, — князей Сицких, Шесту-новых, Карповых и князей Репниных. Вотчины их и поместья розданы другим, движимое имение и дома отобраны в казну.
Таким широким взмахом Борису удалось снести гнездо злоумышленников своих — дом князя Бориса Черкаского, но он разорил его наугад, не зная, здесь ли, в другом ли месте составлялись против него ковы. Многих дворян и слуг князя Черкаского перебрали к допросу; подозрение Борисово коснулось и самого Юрия Отрепьева: о нем дошла до царя какая-то злая весть; велено было схватить его. Но над Юрием бодрствовал промысел человека сильного, осторожного, хитрого и смелого: князь Василий Шуйский, ожидая и себе со дня на день опалы и вечного заточения, боялся, чтоб его смелый план мести Годунову не остался тогда без успеха. Это заставило его действовать не откладывая, и вот он открывает Отрепьеву мнимое его происхождение [22], успокаивает поразивший юношу при таком открытии страх, доставляет средства бежать из Москвы, советует скрыться от преследований Бориса пострижением где-нибудь в отдаленном монастыре и ожидать более благоприятного времени для свержения хищника с престола. Изумленный, встревоженный, под влиянием тысячи чудных мыслей, мечтательный юноша, как бы родясь в другой раз на свет, уходит из Москвы, бродит из обители в обитель, наконец постригается, под именем Григория, в Вятской области, в Хлыновском Успенском монастыре. Все это произошло еще в то время, когда шел суд над опальными и они сидели по тюрмам в Москве. Неизвестно, увезли ли они в горькую ссылку уверенность, что не погибло чадо вражды их к Годунову; но когда распространился слух о первых успехах Лжедмитрия, некоторые из них, живя в заточении, часто посмеивались тихомолком, к недоумению приставов: что бы такое значил этот смех?
Должно, однакож, отдать справедливость Борису, что он не хотел губить своих опальных из одного подозрения: он заботился, чтобы не только они не имели недостатка в пище и во всем необходимом, но чтобы с ними обходились бережно и почтительно [23]. Приставы, отправленные с бедными изгнанниками, думали угодить царю жестоким обхождением с опальными; но Борис узнавал об этом с негодованием и давал повеления в точности исполнять свои наказы. Иван Романов и князь Иван Черкаский, спустя несколько времени, были возвращены в Москву, а княгиня Черкаская с женою Александра Романова и детьми Федора, или инока Филарета (в числе которых был и Михаил, в последствии возведенный на царство) перевезены в отчину Федора Никитича. Царь опять писал тогда к их приставу: «чтоб дворовой никакой нужи не было, и корм им давал доволен и покоил их всем, чего ни спросят, а не так бы еси делал, что писал преж сего, что яиц с молодом даешь не от велика: то ты делал своим воровством и хитростью.» Перечитывая доносы приставов о речах изгнанников, Борис не раз бывал тронут их жалобами, ибо немедленно делал распоряжения о послаблении их заточения и увеличении удобств жизни. Так было поступлено с иноком Филаретом, когда пристав сообщил царю следующие слова его: «Милые мои детки, маленьки бедные осталися; кому их поить и кормить? Таково ли им будет ныне, каково им при мне было? А жена моя бедная, на удачу уже жива ли! Таково ж замчена, где и слух не зайдет. Мне уж что надобно? Лихо на меня жена да дети; как их помянешь, ино что рогатиной в сердце толкнет. Много иное они мне мешают... Дай, Господи, слышать, чтобы их ранее Бог прибрал, и яз бы тому обрадовался. Я чаю, жена моя и сама рада тому, чтоб им Бог дал смерть, а мне бы уж не мешали; я бы стал промышляти одною своею душою. А братья уж все, дал Бог, на своих ногах.» (Филарет думал, что всех их нет уже на свете).