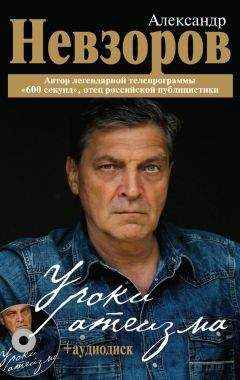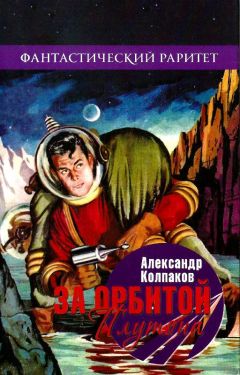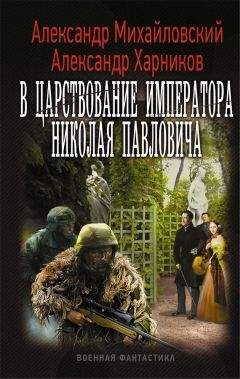Александр Панарин - Стратегическая нестабильность ХХI века
Это его люмпенская природа так воспламеняется и бунтует при всяком напоминании о высоком и обязывающем. Это у него нет истории и нет отечества. Это он стал сегодня резервом глобального американского наступления по всему миру. Без него идеология нового либерализма, озабоченного не эмансипацией личности, а эмансипацией инстинкта, могла бы существовать только в качестве некой субкультуры, притягивающей экспериментаторов неофрейдизма. Но потребительский человек — новый люмпен — увидел в ней "потакающую теорию", способную избавить его от комплексов и даже наделить признаками авангардности. К этому потребительскому авангарду, готовому ниспровергать нормы национальных культур на местах, и обращаются США как к своей пятой колонне. Новый интернационал — интернационал люмпенов-потребителей — уже создан, и без него США не решились бы на нынешнюю глобальную авантюру.
Объяснение на стратегическом уровне
В отличие от идеологии, раскидывающей свои сети повсюду и отличающейся намеренной многозначностью и двусмысленностью своих терминов, стратегия ориентируется на субъектов, принимающих важнейшие решения с учетом возможных плюсов и минусов, издержек и потерь. Стратегические решения — это решения перед лицом оппонента, вовлеченного в игру и в свою очередь претендующего на выигрыш. В этом смысле стратегия есть не монолог, а игра, в ходе которой приоткрываются шансы и корректируются первоначальные планы.
Что такое война как стратегия и почему стратегия перерастает в войну?
Для агрессора — завоевателя война выступает как захватническая стратегия. Это означает:
а) что его социум организован таким образом, что самостоятельно производить новые богатства ему представляется менее предпочтительным ("рентабельным"), чем отнимать его у соседей;
б) что «соседи» дают ему повод подозревать их в слабости.
Если перейти от этого весьма общего рассуждения к специфическому менталитету Запада времен мировых империалистических войн, то война как стратегия выходит на передний план в тех фазах развития, когда имеет место "кризис прогресса". В рамках большого кондратьевского цикла это означает период, когда прежде накопленные факторы интенсивного развития исчерпываются. В интенсивной фазе ареал обитания современного человека расширяется путем открытия качественно новых промышленных и социальных технологий: прогресс так реорганизует пространство, что оно внезапно делается более поместительным и продуктивным, чем прежде. Экстенсивные стратегии расширения пространства — а война является их крайней разновидностью — в этих условиях теряют свои принудительность и привлекательность. Но когда у цивилизации на данное время нет в запасе больших фундаментальных идей для прорывов к качественно новому, в обществе начинает расти социальная напряженность, в особенности в современном обществе. В традиционных обществах, свободных от обольщений великих учений, спрос был достаточно эластическим: когда выдавался неурожай, люди подтягивали пояса, не виня во всем строй и правителей; последние в свою очередь не испытывали комплекса неполноценности.
Но в современном обществе, основанном на морали и идеологии успеха, на вере в полную и окончательную победу прогресса, внезапный дефицит благ скандализирует всех. Электорат волнуется, правители ищут алиби и — срочных паллиативов. Требуется во что бы то ни стало возросший общественный пессимизм конвертировать в новую форму агрессивного воодушевления. Так наступает время активной геополитики. Словом, в повышательной (интенсивной) фазе большого кондратьевского цикла торжествует миф прогресса, в понижительной — миф геополитики.
Нам, следовательно, необходимо понять начавшуюся войну как экстремальную разновидность стратегии геополитического расширения, пришедшую на смену недавним стратегиям научно-технического роста. Условия новой стратегии станут понятны лишь в свете двух катастроф, подстерегших западное прогрессистское сознание.
Первая катастрофа связана с открывшимися экологическими "пределами роста". Надо сказать, ментальный «код» западной цивилизации не знает никаких имманентных пределов. Мир, открывшийся западному человеку на заре эпохи модерна — в Ренессансе, — это вселенная, состоящая из бесконечного количества миров, но при этом однородная — подчиненная одним и тем же законам механического разума. Причем бесконечность здесь выступает сразу в двух ипостасях: как экстенсивная бесконечность расширения, пространственной экспансии и как интенсивная бесконечность бесконечного повышения человеческих способностей в овладении внешним миром. Обе ренессансные темы — и тема бесконечности миров, и тема бесконечного совершенствования изобретательности разума — имели таинственно пророческое значение. В самом деле: в период, когда Земля казалась столь огромной и была столь мало освоенной, акцент на бесконечной множественности миров в горизонте нашей человеческой экспансии кажется заведомо преждевременным, избыточным. Тем не менее ренессанская интуиция упрямо возвращается к этой теме — от Н. Кузанского до Д. Бруно и Галилея.
Свою практическую фундированность эта тема бесконечности миров получила только в ХХ веке, когда новый технический человек уже осквернил природу и стал подумывать о космической экспансии. Никаких сыновних чувств он к планете Земля не питал — она для него была "рядовой планетой" и очередным этапом на пути его прометеевой эпохи.
И вдруг — эта новая, травмирующая тема "пределов роста" и глобального экологического кризиса. Стал ли технический человек мудрее или «сентиментальнее»? Вполне возможно и то, и другое: ведь в историческом и психологическом смысле он изрядно постарел за последние полстолетия. Но если бы в изменении его позиции и его картины мира в самом деле решающую роль сыграла зрелая экологическая и социокультурная рефлексия, он бы сделал акцент не на "пределах роста", а на том, чтобы установить пределы своей потребительской алчности, то есть обратил бы взгляд не вовне — на природу как объект, — а во внутрь, в соответствии с древней духовно-религиозной традицией. Но этого поворота он так и не совершил: он по всем признакам остался прежним космическим империалистом и экспансионистом. Но в этом горизонте ничего нового не установлено: космос как был, так и есть бесконечен, а космическая экспансия сегодня технологически более реальна, чем когда бы то ни было.
Изменение произошло в другой области: по мере перехода от прежнего, фаустовского типа к нынешнему, потребительскому типу произошло резкое сужение темпорального (временного) горизонта. "Бесконечность миров" меня убеждает и обнадеживает лишь в том случае, когда я умею ждать.
Космические экстазы и научно-технические эпопеи поколения рубежа 50–60-х годов отличались тем, что они не были привязаны к индивидуалистическим потребительским ожиданиям, иными словами, были скорее «романтическими», чем потребительско-прагматическими.
Речь шла не о том, что именно я или именно мы в отведенный нам жизненный срок приобщимся к возможностям, открываемым новым техническим веком. Здесь позитивистские критерии эмпирической верификации новых возможностей на индивидуальном, повседневном уровне не действовали — космический энтузиаст того времени был коллективистским метафизиком, а не индивидуалистическим эмпириком и вел себя так, будто верил в свое бессмертие.
Современный наблюдатель научно-технических эпопей ведет себя по-иному. Он как бы заново открыл свою смертность и заявляет: "после меня хоть потоп". Его не интересует "бесконечность миров" как потенция прогресса — его больше пугает перспектива истощения планеты, призванной служить ему сегодня, сейчас. Вот почему предупреждение "римского клуба" так его испугало. С одной стороны, он не способен ждать отдаленных итогов прогресса, способного отодвинуть "пределы роста" (что несомненно в виду "бесконечности миров"), с другой — он не способен меняться, укрощать свои потребительские аппетиты, к чему, собственно, и призывает современная экологическая философия. Поэтому он впал в панику, то есть получил, говоря на языке неофрейдизма, психическую травму, уменьшающую потенциал ясного самосознания.
Итак, ресурсов планеты не хватит для процветания всех!
Прогресс, взятый в его "самом важном", потребительском измерении, предстоит либо приостановить, либо перераспределить его в социальном отношении так, чтобы он стал "корзиной для немногих". Может быть, тогда этой корзины хватит на больший срок. Эти потребительские размышления и дилеммы стали стратегическими дилеммами, как только их по-настоящему принял к сведению западный истэблишмент.