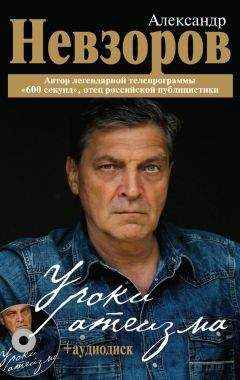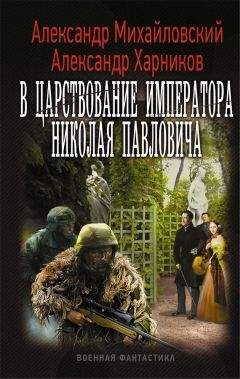Александр Панарин - Стратегическая нестабильность ХХI века
"Информационное общество" — это психоаналитическая структура, замешанная на вытеснениях, репрессиях и подменах: это то, что куплено ценой вытеснения. Ясно поэтому, что дихотомия информационная экономика — физическая экономика обретает черты синдрома: носителей физической экономики ненавидят уже потому, что, с одной стороны, считают скандальным для себя с ними идентифицироваться, с другой — втайне осознают свою зависимость от них.
Дистанцирование информационного общества от реальной экономики, как и дистанцирование постмодернистской науки от реальных поисков нового вещества и новых видов энергии, закрывает Западу дорогу к очередной, объективно назревшей фазе интенсификации производства. Объективно остается, таким образом, путь экстенсивного расширения, а значит — нового передела планетарных ресурсов в свою пользу.
Творческое бесплодие как декадентская болезнь завершающей стадии секуляризации порождает страх перед "пределами роста", а "пределы роста" порождают новую империалистическую политику передела земных ресурсов в пользу "передового меньшинства" планеты — новых избранных. И так уж устроен человек: он нуждается в самооправдании тех своих практик, от которых не в силах отказаться. Практика нового империализма нуждается в тем более сильных оправданиях, что она уже была осуждена влиятельными идеологиями недавнего прошлого — не только собственно левой, но и «леволиберальной».
Уход с общественной арены "большой левой", олицетворяемой коммунистическим и социалистическим движением, создал вакуум, которым некие силы не замедлили воспользоваться. Сначала это были силы неоконсервативной волны, которым удалось скомпрометировать большое социальное государство и его клиентуру — социально незащищенных. Безработные были объявлены "добровольно безработными", предпочитающими жить на пособие, нежели работать. Получатели социальной помощи — сторонниками соединенного патернализма, живущими за счет "добросовестно работающих" и обременяющими экономику дотационными нагрузками. Профсоюзы были объявлены средой, создающей инфляцию, ибо их требование повышения заработной платы "безотносительно к росту прибылей" символизирует паразитарную "экономику спроса", подрывающую здоровую "экономику предложения". Новая монетаристская экономика "дорогих денег" означала экономический социал-дарвинизм: действие естественного рыночного отбора, более не смягченного ни дешевым кредитом (для тех, кто временно оказался в трудном положении), ни дефицитным финансированием тех видов деятельности (наука, образование, культура, здравоохранение), которые по чисто рыночным критериям оказываются нерентабельными.
Ключевое слово "новый эпохи" было произнесено: социал-дарвинизм. Оно преодолело барьер общественной цензуры благодаря тому, что первоначально относилось якобы не к людям, а к предприятиям: пусть разоряются все нерентабельные предприятия — это очистит экономическое пространство для рентабельных.
И вот прошло совсем немного времени — не более 10 лет, отделяющих 80-е годы от 90-х, и социал-дарвинистский принцип стал более или менее откровенно применяться к людям. Реальное содержание термина — "естественно-рыночный отбор" — стало все больше высвечиваться по мере того, как неоконсервативные методы оздоровления экономики стали распространяться на регион с менее ценным человеческим материалом — на бывшие социалистические страны, в особенности — на Россию. Здесь уже новая идеология отбросила «экономические» эвфемизмы и ввела в действие социал-дарвинистский арсенал прямо по назначению — то есть применительно к населению. Все те филиппики, которые деятели неоконсервативной волны адресовали экономически неэффективному предпринимательству, требуя перекрыть им кислород дешевого кредита, наши реформаторы стали адресовать целым слоям населения, требуя перекрыть им… кислород. Возникла лексика нового апартеида: «совок», "люмпен", «маргинал», "красно-коричневое большинство" — и все это применительно к народу, которому еще накануне обещали демократическое процветание и вхождение в европейский дом. Ясно, что это не было "языком консенсуса" — это была лексика нового апартеида и внутреннего расизма.
И здесь необходимо различать тактический и стратегический уровни. С позиций российских приватизаторов, такая социал-дарвинистская компрометация большинства была необходима ввиду того, что с этим большинством не хотели делиться собственностью. не делиться собственностью с полноценными, самодеятельными гражданами — это скандально и недемократично. Но если предварительно этих граждан опорочить, назвав совками и люмпенами, обремененными неисправимой тоталитарно-патерналистской наследственностью, то тогда отлучение их от демократического дележа собственности начинает выглядеть как вынужденная мера, связанная с ограждением здоровой экономики от нездоровых элементов. Так вместо демократического принципа единой нации, сообща строящей новое будущее, возобладал принцип "двух наций": достойной нового будущего и явно его не достойной.
Но, как оказалось, по глобальному счету все это представляло собой не стратегию, а тактику; стратегический уровень от новой российской элиты оказался скрытым. Истины этого уровня раскрываются только сегодня. Та уничтожающая, непечатная лексика гражданской войны, которая была использована номенклатурной «демократией» при отстаивании ее монополии на собственность, сегодня вошла в идеологический арсенал Запада. Из западного далека оказались весьма малоразличимыми те черты и критерии, посредством которых новые собственники отличали себя от «этого» народа.
Внутренний расизм российских «радикал-реформаторов» превратился на Западе во внешний расизм: расистское отношение к России в целом как к стране, недостойной тех бесценных ресурсов, которые лежат на ее территории. Образ крайне плохо управляемой страны, начиненной саморазрушающимися ядерными складами, наводненной экстремистами, непредсказуемой и невменяемой, — все это выступает как объективная необходимость внешнего вмешательства и внешнего управления. Наши «реформаторы» вовремя не заметили радикального изменения своего имиджа на Западе: вместо респектабельных реформаторов-романтиков свободы там уже сложился образ насквозь коррумпированной, вороватой и вероломной шайки, все практики которой находятся вне цивилизованного поля и поля легитимности.
Иными словами, образ России начинает складываться по той же модели, что и образ Африки, нуждающейся, как сегодня вполне откровенно говорят, в «реколонизации». Если обобщить все то, что успела написать либеральная пресса о России и всей ее истории, то легко усматривается лейтмотив: главный изъян реальной истории России в том, что она не была вовремя колонизована Западом. Одни при этом сетуют на то, что Россия приняла христианскую веру от Византии, а не от Рима, другие — на то, что поворот к Западу не состоялся во времена Лжедмитрия или «семибоярщины», третьи оплакивают "демократический февраль" 1917 года, четвертые осуждают бессмысленную жестокость "большевистского сопротивления" Германии в 1941—1945-х, помешавшую простому советскому человеку уже тогда пить баварское пиво.
Словом, создается впечатление, что российская история развертывалась в присутствии некоего наблюдателя, "умеющего ждать". И вот наконец он, кажется, своего дождался: для реколонизации Западом Россия вполне созрела.
При этом разговор о вполне земной, материальной заинтересованности Запада в энергоносителях и прочих дефицитных ресурсах, относящихся к «низменному» уровню физической экономики, пока что в открытую не ведется. Более респектабельным выглядит разговор о безопасности. Те самые господа, которые демонтировали доставшийся от СССР военно-промышленный комплекс и разрушали армию под предлогом того, что "у новой России нет врагов", сегодня говорят о том, что Россия слишком слаба для того, чтобы самостоятельно, без американского военного покровительства, обеспечить свою безопасность с Юга. Ну а что находится на Юге, мы знаем: там находятся нефтяные залежи Каспия — психоаналитически вытесненный из официального «госдеповского» сознания "либидональный объект". Для легализации соответствующей либидональной озабоченности США необходимы операции смещения объекта: именно там, где лежит объект "запретного желания", появился объект "законного негодования" — гнездо международного терроризма.
Ясно, что самый скорый путь к вожделенной геостратегической цели состоял бы в том, чтобы попросту объявить российский режим террористическим, а его претензии на ресурсно эффективные территории — рецидивом имперского мышления, становящегося смертельно опасным для всего человечества. Это непременно надо иметь в виду для того, чтобы расшифровать все промежуточные звенья — пропагандистские, дипломатические, военно-политические, — которые должны в конце концов привести к этому ключевому звену. Путь к нему — стратегическая игра США с новым российским руководством, задуманная как многоступенчатый процесс, в котором противника будут вести к заранее обозначенной цели, попутно перепроверяя его замыслы и возможности.