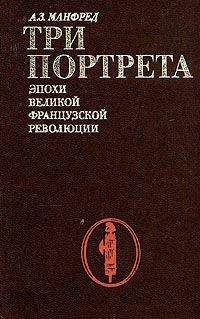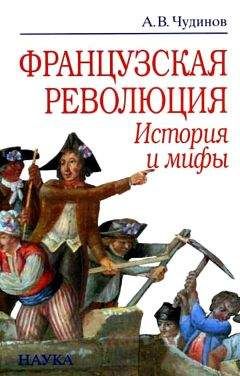Игорь Князький - Тиберий: третий Цезарь, второй Август…
Наиважнейшим должно признать полное отсутствие какого-либо позитива у этой самой оппозиции. Особо следует подчеркнуть, что нравственная атмосфера, царившая тогда в римских верхах, была крайне малопривлекательна. Тиберий, наблюдая ее и ощущая повседневно, неизбежно должен был проникнуться к сенаторам весьма недобрыми чувствами. Это засвидетельствовано в «Анналах» Тацита:
«А те времена были настолько порочны и так отравлены грязной лестью, что не только лица, облеченные властью, которым, чтобы сохранить свое положение, необходимо было угодничать, но и бывшие консулы, и большая часть выполнявших в прошлом преторские обязанности, и даже многие рядовые сенаторы наперебой выступали с нарушающими всякую меру постыдными предложениями. Передают, что Тиберий имел обыкновение всякий раз, когда покидал курию, произносить по-гречески следующие слова: «О люди, созданные для рабства!» Очевидно, даже ему, при всей его ненависти к гражданской свободе, внушало отвращение столь низменное раболепие».{520}
Едва ли Тиберий пытал ненависть к гражданской свободе. Она для него была делом «давно минувших дней». Явлением, себя изжившим, бесславно канувшим в пучине гражданских войн. Упразднив народные собрания и передав их функции сенату, он убрал с римской политической арены последнюю ее тень. Но с сенатом он вполне искренне желал сотрудничать, о чем говорит вся его политика первых девяти лет правления. Но дикое сочетание явного раболепия и скрытой оппозиционности неизбежно должно было убедить его в бесплодности продолжения такого курса. Смерть Друза и реакция на нее Агриппины и ее сторонников в сенате стали рубежным событием правления Тиберия. И не по его вине.
Год выдался для Тиберия тяжелейший. Помимо сына он потерял и внука: вслед за Друзом скончался один из его сыновей, четырехлетний Германик. Маленький Тиберий Гемелл оставался теперь прямым потомком принцепса. Тяжкой потерей стала для Тиберия и смерть его друга Луцилия Ланга. Это был «давний товарищ всех его печалей и радостей, единственный из сенаторов, разделявший с ним его уединение на Родосе».{521} Сенаторы постарались максимально почтить память друга принцепса. Хотя Луцилий Ланг был выходцем из новой знати, его погребли по высшему разряду за государственный счет, а его статую установили на форуме Августа.
Едва ли и здесь Тиберий увидел искреннее сочувствие. Притворные соболезнования ему уже надоели, и временами он реагировал на них даже язвительно. Посланцы Иллиона, римской колонии на месте древней Трои, последними выразили ему соболезнования в связи с потерей сына-наследника. Тиберий с горькой усмешкой ответил им, что также соболезнует иллионцам: «ведь они лишились своего лучшего согражданина Гектора».{522}
Тяжесть потерь — единственный сын, внук, лучший друг — Тиберий старался заглушить неустанными занятиями государственными делами. Это было продолжение лучших сторон минувших лет. Вскоре, однако, наступили и худшие времена. Тиберий не питал иллюзий относительно восприятия людьми правления как такового. Он прямо говорил, что никто добровольно не желает, чтобы им управляли, а люди воспринимают управление как нежелательную необходимость. Они всегда с удовольствием уклоняются от повиновения и рады идти против правителей. Со своей стороны он полагал, что сделал все, чтобы правление шло наилучшим образом, но, поскольку против него люди все равно идут, что соответствует их природе, то правитель не может пренебречь имеющимися у него средствами защиты. Наилучшее средство — закон об оскорблении величия. До смерти Друза он не просто редко применялся. Тиберий не выступал инициатором его применения и даже неоднократно либо пресекал обвинения такого рода, либо смягчал приговоры. С 24 г. все пошло иначе. Теперь уже сам принцепс выступает с инициативами преследования тех, кто виновен или может быть виновен в этом тягчайшем с точки зрения римского законодательства преступлении.{523}
Растущее раздражение Тиберия против Агриппины проявилось в обиде его на жрецов-понтификов, которые, вознося молитвы о благополучии принцепса, поставили рядом с ним имена Нерона и Друза. Тиберий немедленно почувствовал в этом зловредное влияние невестки и, вызвав к себе жрецов, прямо спросил, не по просьбе ли Агриппины они это сделали. Те с жаром все отрицали и Тиберий смягчился, лишь слегка их разбранив. Но случайным он этот эпизод не счел. Выступив в сенате, он жестко предупредил, чтобы впредь никто возданием преждевременных почестей не распалял честолюбия в восприимчивых душах юношей».{524}
Подливал масло в огонь и Сеян. Он твердил Тиберию, что государство расчленено на враждебные станы, как во времена гражданской войны, что иные уже открыто заявляют о принадлежности к партии Агриппины, и если не принять своевременно должные меры, то число их быстро возрастет. А лучшее средство против углубляющейся усобицы — убрать одного или двух наиболее рьяных смутьянов.
Возможно, Тацит точно передает слова Сеяна.{525} Но, думается, Тиберий сам мыслил подобным образом. Сеян не подсказывал того, чего принцепс не ведал. Он утверждал его в правоте таких мыслей, показывал свое понимание происходящего и лишний раз утверждался в роли верного помощника. Что же касается утверждений автора «Анналов» об уже тогда созревшем желании префекта претория истребить семью Агриппины, дабы самому быть соискателем высшей власти, то, хотя такое мнение, полное доверия Тациту, и продолжает существовать, для него не может быть серьезных оснований.{526} Для осуществления такой фантастической цели он должен был бы истребить всю семью принцепса, включая его единственного теперь внука. Скорее всего, нападая на Агриппину и ее сторонников, Сеян защищал и свое положение. Окажись у власти потомство Германика — где бы тогда оказался префект претория, любимец Тиберия?
Первый удар был нанесен по известному полководцу Гаю Силию и его жене Созии Галле. Силий был близок к Германику, что само по себе еще не означало его нелояльности, но разговоры, им ведомые, Тиберию не могли понравиться. Так Силий открыто говорил, что Тиберий не сохранил бы власти, если бы и ему, Силию, подчиненные легионы во время знаменитого мятежа пожелали бы другого принцепса (во время мятежа рейнских легионов войска, подчиненные Гаю Силию, не бунтовали, чем он гордился и похвалялся). По словам Тацита, Тиберий считал, что это (действия Си-лия во время мятежа на Рейне) умаляет его достоинство, и что он бессилен отблагодарить за такие заслуги. «Ибо благодеяния приятны лишь до тех пор, пока кажется, что за них можно воздать равным; когда же намного превышают такую возможность, то вызывают вместо признательности ненависть».{527}
Гай Силий, похваляясь, что именно ему Тиберий обязан сохранением власти, ненависть принцепса заслужил. Для полноты несчастья, супруга его была близка к Агриппине, что в новой ситуации после 23 г. было уже основанием для подозрений.
Обвинение оказалось для Силия совершенно неожиданным. До сих пор он гордился тем, что подавил мятеж Сакровира в Галии, а тут ему вдруг ставят в вину, что, зная о причастности Сакровира к восстанию, он утаил это, чем оказал помощь мятежникам. Подавляя же восстание, он якобы алчностью своей запятнал победу. Жена объявлялась его сообщницей. Алчность прозвучала в обвинении совсем не случайно. Вина в вымогательстве в суде теперь рассматривалась как оскорбление величия.
В отличие от предыдущих дел такого рода, процесс Силия выглядел явной расправой. Подсудимому не давали ничего сказать в свою защиту, грубо попирая фундаментальный принцип римского правосудия: да будет выслушана и другая сторона (Audiatur et altera pars). Тиберий на сей раз был однозначно на стороне обвинения. Когда Силий попытался добиться хотя бы небольшой отсрочки разбирательства под предлогом, что сначала обвинитель его, действующий консул Варрон, должен сложить свои консульские полномочия, то Тиберий немедленно жестко возразил, что не должно лишать права обвинения того, кто по должности своей обязан ревностно наблюдать «ne quid res publica detrementi capiat» (чтобы государство не потерпело ущерба).
Предвидя неизбежное осуждение, Силий покончил с собой. Жена его была присуждена к ссылке.
С этого времени можно говорить о процессах по оскорблению величия как о политических расправах, где главным обвинителем и судьей выступает сам Тиберий, не склонный отныне являть свое милосердие. Новый период его царствования получил следующую характеристику в ходившем по Риму двустишии:
Цезарь конец положил золотому сатурнову веку —
Ныне, покуда он жив, веку железному быть.
Представления о нескольких веках в истории человечества римляне заимствовали у греков. В поэме Гесиода «Труды и дни» (VIII-VII вв. до Р.Х.) были описаны пять веков: первый — золотой, когда царил Кронос (Сатурн у римлян). Это был счастливейший век. Овидий так писал о нем: «Aurea prima sata est aetas, que vindice nulla!» («Первым посеян был век золотой, не знавший возмездия); сменил его век серебряный, когда не стали люди повиноваться богам на Олимпе, за что Зевс поселил их в подземном сумрачном царстве; третий век — медный, когда люди возлюбили войну, оружие их было выковано из меди и они жестоко уничтожали друг друга; когда этот род сошел в царство теней, Зевс создал век полубогов — героев. Все они погибли в кровопролитных битвах, но за их доблесть и благородство Зевс поселил их на острове блаженных, где живут они беспечальной жизнью. Наконец, пятый век людской — железный, длящийся и ныне. В веке этом богини Совесть и Правосудие покинули людей. Они взлетели на Олимп к бессмертным богам, а людям остались одни тяжкие беды и никакой защиты от зла.