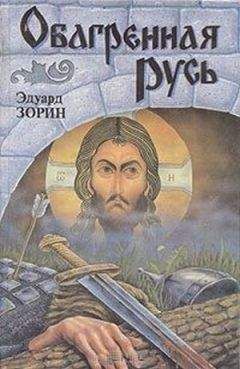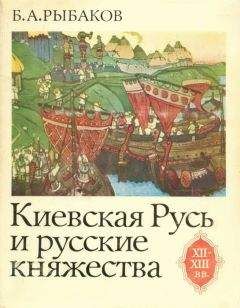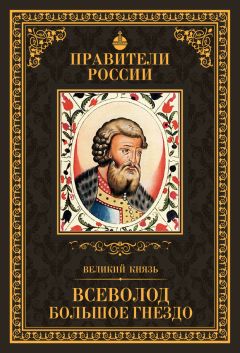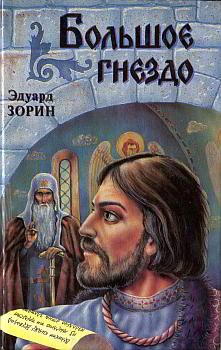Сергей Цветков - Древняя Русь. Эпоха междоусобиц. От Ярославичей до Всеволода Большое Гнездо
Добиваясь расположения патриарха, Леон между прочим «уведахом» его, будто «не про ино что гоним есмь и безчествуем, но некоего ради Феодора». В связи с этим последнюю и наиболее обширную часть своего послания Лука Хризоверг посвятил личности княжьего избранника и разоблачению его богословских заблуждений, — по всей видимости, основываясь на сведениях, сообщенных ему Леоном, или, быть может, имея на руках соответствующее постановление недавнего церковного собора в Киеве. По словам патриарха, Феодор «совершенна смысла отпаде и разум погуби», так как отстаивает чересчур свободную практику постов «и иная многая грубая и несмысленая творяще и учаще». С особенной яростью Лука Хризоверг обрушился на «белого клобучка» за его инвективы против монахов: «Сице же и чисте живущих безженных житие, и Господа ради иночествующих, и любомудрию о Господи учащихся негодоваше и укоряше». Вероятно, это следует понимать так, что женатый Феодор, оправдывая свои притязания на епископский сан, в полемической запальчивости договорился до полного отрицания монашества как необходимого условия архиерейства. Андрей, по всей видимости, разделял воззрения своего «нареченного» епископа, почему патриарх и счел нужным преподать князю пространный урок по богословию монашеской аскезы: «Брака убо выше есть и много честнейшее девство. Елико убо ангели высше суть человеков и елико небо от земли, толико убо не оженивыйся выше есть женившагося; девство бо есть ангельское житие…» и т. д. Заклиная князя «соблюдатися от ложных пророк, иже приходят во одеждах овчих», Лука Хризоверг требовал: «Того же убо Феодора отжени [прогони] от себе и к его епископу [то есть к киевскому митрополиту] понуди его ити, да аще обратиться и покаеться, благодать Богу; аще ли еще учнеть, тамо пребывая, церковныа смущати, и молвити вещи и укоризны, и досады на епископа [Леона] наводити, супротивное творя священным и божественным правилом, отлучена его иметь священный и божественный великий собор с нашим смирением». В случае же, если Андрей не послушает и оставит своего любимца на владимирской кафедре, патриарх грозил отлучить не только Феодора, «но и единомысленники и споспешьники и сопричастники его вся, по-слушающих чреззаканных [противозаконных] его поучений».
На Руси свой голос к патриаршим обличениям Феодора присоединил туровский епископ Кирилл, талантливый церковный писатель, прозванный русским Златоустом, «златословесным учителем». По свидетельству его «Жития», он открыто провозгласил «Феодорца» еретиком «и проклят его», а к «Андрею Боголюбскому князю многа послания написа от евангельских и пророческих писаний», — видимо, с увещеваниями удалить от себя «белого клобучка»[378].
Как видим, усилия византийских и русских церковных властей были направлены на то, чтобы оторвать Феодора от Андрея, вбить между ними клин. Действительно, вместе они «составляли могучую силу, способную на самые смелые и рискованные предприятия»{205}. Феодор, несомненно, был умный, образованный, деятельный человек с крутым и властным характером, словно созданный на пару с князем Андреем. Его крупная личность производила на современников ошеломляющее впечатление, которое продолжало сказываться еще и столетия спустя. Не случайно Никоновская летопись, рисуя портрет Феодора (по-видимому, достаточно близкий к оригиналу), наделяет его демоническими чертами и не скупится на гиперболические сравнения: «Бе же сей дерзновенен зело и безстуден [здесь в смысле: бесстрашен], не срамляше бо ся ни князя, ни боарина, и бе телом крепок зело, и язык имеа чист, и речь велеречиву, и мудрование кознено [то есть был силен в споре, хорошо владел полемическими приемами], и вси его боахуся и трепетаху, никто же бо можаше противу его стоати, неции [некоторые] же глаголаху о нем, яко от демона сей есть, инии же волхва его глаголаху [считали его волхвом]… и бе страшен и грозен всем… рыкаше бо глас его аки лвов, и величеством бе аки дуб и крепок, и силен… и язычная чистота и быстрость преудивлена, и дерзновение и безстудие таково, якоже никогда же никого не обиноватися [ни перед кем не отступал], но без сомнениа наскакаше на всех…»
Дальнейшее поведение Феодора вполне оправдывает его летописную характеристику.
Боголюбский, со своей стороны, отлично сознавал, какого ценного сотрудника он приобрел в лице напористого и неустрашимого «белого клобучка». Яростная критика Феодора, звучавшая из уст его церковных оппонентов, ничего не изменила в отношении Андрея к своему ставленнику, чья колоритная фигура олицетворяла собой гарантию независимости Ростовской епархии от Киева. Несмотря на призыв патриарха вернуть на ростовскую кафедру Леона, князь упорствовал в своем желании видеть во главе церковного управления именно Феодора — если не митрополитом, то, по крайней мере, епископом. Но для этого «нареченному» владимирскому архиерею необходимо было пройти обряд рукоположения, который законным образом «обручал» епископа с кафедрой.
И Феодор нашел способ заполучить желанный святительский сан, — способ не совсем чистый, но, тем не менее, отлично характеризующий его предприимчивую натуру. В Никоновской летописи под 1170 г. (дата ошибочна, речь должна идти о 1166 или 1167 г.) читаем: «Того же лета Феодор… иде в Констянтиноград, несый [неся] с собою много имениа, и ложно рек к патриарху: «яко ныне несть в Киеве митрополита, и се аз, да поставиши мя». Патриарх же не приат словес его; он же помале начат паки молити патриарха: «яко несть ныне в Киеве митрополита, и се тамо несть от кого ставитися епископом, да поставиши мя в Ростов епископом»; и тако поставися в Ростов епископом Феодор…» Вероятно, не все в этой истории заслуживает безусловного доверия. В частности, сомнительно, чтобы патриарх целиком положился на слова Феодора о смерти митрополита без официального подтверждения этого факта из Киева, или хотя бы не справившись об истинном положении дел у русских купцов, ежегодно приезжавших в Константинополь. Нельзя, впрочем, исключить и того, что Феодору не было никакой нужды вводить патриарха в заблуждение в том случае, если его поездка в Константинополь состоялась в промежутке между кончиной митрополита Иоанна IV (1166) и назначением в Киев нового главы Русской митрополии — грека Константина II (1167). Но как бы ни относиться к некотором деталям летописного рассказа, само получение Феодором епископской митры отрицать не приходится, ибо на сей счет существуют также свидетельства древних летописных списков, которые именуют его «владыкой», пускай и «ложным». И поскольку нет никаких сведений, что его поставление совершил киевский митрополит, значит, это мог сделать только константинопольский патриарх, как и повествует Никоновская летопись. Конечно, на первый взгляд этот поступок Луки Хризоверга в корне противоречит всему тому, что было сказано им по адресу Феодора прежде, в грамоте к Андрею Боголюбскому. Однако не забудем про выдающиеся полемические способности «белого клобучка» и его дар убеждения. Кроме того, нужно принять во внимание замечание Никоновской летописи о «многом имении», которое взял с собой Феодор. Это достаточно прозрачный намек на то, что дело в конце концов решилось банальной взяткой. Симония, то есть торговля церковными чинами и должностями (по имени Симона Волхва, который хотел приобрести у апостолов за деньги епископский сан), на протяжении всего Средневековья была настоящим бичом христианской церкви, как западной, так и восточной. В Византийской империи она получила такое широкое распространение, что при императоре Юстиниане I даже была узаконена в виде «степенной пошлины»; нововведение прижилось и было подтверждено последующими каноническими постановлениями: например, византийский свод церковных законов IX в. «Василики» регламентировал суммы «обычных взносов», взимаемых при хиротониях. Так что Феодор продемонстрировал превосходное знание правил игры, в которую он ввязался.
И все же его успех в Константинополе не был таким уж триумфальным. Речистому «белому клобучку» противостоял не менее искусный переговорщик. Приняв от Феодора подношения и согласившись рукоположить его, Лука Хризоверг оговорил одно условие: по возвращении на Русь тот должен был благословиться на вступление в сан у киевского митрополита. Тем самым патриарх фактически умыл руки и оставил архиерейское будущее Феодора под покровом неопределенности.
Эта патриаршая уловка сыграла роковую роль в судьбе Андреева любимца.
Излагая дальнейшее течение событий, древнерусские летописцы постарались, как могли, выгородить Боголюбского, переложив всю вину за нарушение церковного спокойствия и благочиния на его «буйного» архиерея. Поэтому они не только причислили владимирского князя к тем, кто пострадал от действий «Феодорца», но и предоставили ему возможность избавить крещеный мир от «ложного» епископа, в полном соответствии с Божьей волей. Так, Лаврентьевская летопись под 1169 г.[379] повествует: «В то же лето чюдо створи Бог и святая Богородица новое в Володимери городе: изгна бо Бог и святая Богородица Володимерьская [здесь: владимирская икона Богоматери] злаго и пронырливаго и гордаго лестьца, лжаго владыку Феодорца из Володимеря от святыя Богородица церкве Златоверхыя [то есть с владимирской кафедры] и от всея земля Ростовьскыя…» Ссора между Андреем и нареченным епископом произошла будто бы из-за того, что князь понуждал Феодора идти в Киев, чтобы получить благословение от митрополита, а «сей нечестивый не всхоте послушати христолюбиваго князя Андрея веляща ему ити ставиться к митрополиту к Кыеву…». «Князю же о нем добро мыслящю и добра ему хотящю», — подчеркивает летописец, но Феодор вместо того, чтобы подчиниться, начал буйствовать: «Сей же не токмо не всхоте поставленья от митрополита, но и церкви все в Володимери повеле затворити и ключе церковныя взя, и не бысть ни звоненья, ни пенья по всему граду и в сборней [соборной] церкви, в ней же чюдотворная мати Божия и ина всяка святыни Ея… И ту дерзну церковь затворити, и тако Бога разгневи и святую Богородицю, том бо дни изгнан бысть месяца мая в 11 день на память святаго Иоанна Богословца». Но «затворение» церквей во Владимире было не единственным преступлением Феодора. Оказывается, он занимался еще и неприкрытым разбоем в алчном стремлении пополнить свою казну: «Много бо пострадаша человеци от него в держаньи [правление] его, и сел изнебывши [лишились] и оружья и конь, друзии же и роботы добыта [попали в холопство], за-точенья же и грабленья; не токмо простьцем [простолюдинам], но и мнихом, игуменом и ереем [священникам] безмилостиве сый мучитель, другым человеком головы порезывая [остригал волосы на голове] и бороды, иным же очи выжигая и язык урезая, а иныя распиная по [на] стене и муча немилостивне, хотя исхитити от всех именье: именья бо бе не сыт, акы ад». За все свои прегрешения перед Богом и людьми Феодор подвергся церковному суду и страшной казни: «Посла же его Андрей митрополиту в Кыев. Митрополит же Костянтин [Константин II] повеле ему язык урезати, яко злодею и еретику, и руку правую утята [отрубить] и очи ему выняти, зане хулу измолви на святую Богородицю…» Далее следует нравоучительная концовка: «И сбысться слово евангельское на нем, глаголющее: еюже [какой] мерою мерите, [такой] и возмериться вам, и имже судом судите, судится вам, суд бо без милости не створившему милости…[380] Видя бо озлобленье людии своих сих кроткых Ростовьскыя земля от звероядиваго Феодорца погыбающих… спасе рабы своя рукою крепкою и мышцею высокою, рукою благочестивою царскою прав-диваго и благовернаго князя Андрея. Се же списахом [для того чтобы сказать] да не наскакають неции [некоторые] на святительскый сан, но его же [но только те, кого] позоветь Бог…»