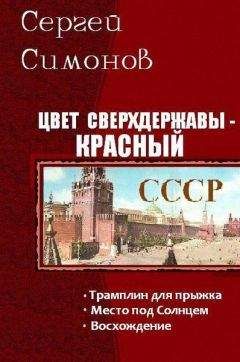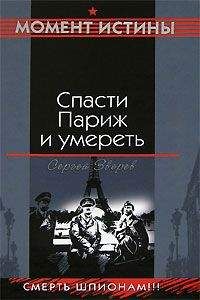Андрэ Моруа - О тех, кто предал Францию
Мак-Карти сказал тогда: «Мы знаем, что нам угрожают многие опасности и в первую очередь опасность смерти, что, пожалуй, не так важно, и что всего хуже — опасность тирании. И прямая наша обязанность спасти то, что еще можно спасти и что зависит единственно от нас самих, — это то доверие, которое мы чувствуем друг к другу: А для этого необходимы две вещи. Во-первых, мы никогда не должны забывать о существовании наших друзей, об их преданности и доброте. Даже если мы годами не будем их видеть, даже если французам будут твердить, что англичане изверги, а нам доказывать, что французы нас предали, мы должны помнить об англичанах и французах, о которых мы достоверно знаем, что они не способны ни на что другое, как на благородство и великодушие. И как только нам представится возможность, мы должны проявлять друг к другу преданность и доброту, больше преданности и доброты, чем когда бы ни было. Мир страдает в эти дни от большого недостатка доброты. Мы должны восстановить равновесие».
В тот вечер для меня снова ожило все то лучшее, что я любил в Англии. Но трудности положения давали о себе знать слишком часто, слишком болезненно. Отношения между обеими странами становились все более напряженными.
Англия стала думать исключительно об организации своей собственной обороны. В мае в ее распоряжении не было ни одной хорошо снаряженной дивизии, которую можно было бы отправить во Францию, а в июле в стране было свыше миллиона человек, достаточно подготовленных к обороне страны на случай вражеского вторжения. Впервые в истории канадцы и австралийцы выразили готовность сражаться в самой Англии. Повсюду на дорогах и в городах можно было видеть, как строятся укрепленные позиции. На основе нашего страшного опыта британское главное командование отдало гражданскому населению приказ — в случае вражеского нападения не покидать своего местожительства, и заявило, что, при необходимости, дороги будут очищаться пулеметами. В каждой деревне были созданы местные команды для защиты от парашютистов. Везде господствовал новый дух решимости и отчаянной храбрости. Неожиданный разгром французской армии и непосредственная угроза безопасности островов подействовала на Англию, как страшный удар грома. Но британский народ, как и всегда во время серьезных кризисов в его истории, не утратил мужества. В сознании опасности он черпал новые силы.
2 июля французская военная миссия освободила меня от военных обязанностей. Так как всякая связь между Англией и Францией к этому времени была уже прервана, а мне в недалеком будущем предстояло прочесть курс лекций в Харвардском университете, то я решил перебраться в Америку. Я попал на один из тех пароходов, на которых англичане переправляли своих детей в Канаду. Тысячи мальчиков и девочек играли на палубе парохода под жерлами пушек, которые должны были их защищать. Нас сопровождал крейсер «Ривендж» и два истребителя. Из пароходного бюллетеня я узнал страшную весть о морском бое у Орана.
Из всех несчастий, свидетелем которых я был в последние недели, это показалось мне самым страшным. Француз в первую голову, но вместе с тем — вот уже двадцать лет — друг Англии, я представлял собой как бы ребенка в семье, в которой родители развелись. Мое сердце говорило: «My country right or wrong»[10]. Но разумом я сожалел о разрыве, происшедшем между двумя народами, которые так сильно нуждаются друг в друге. Прислонившись к перилам, я долго смотрел на пенистое море и на мощный военный корабль, спокойно плывущий рядом с нами. Мои спутники-англичане, уважая мое горе, молча проходили мимо меня. И вдруг мне вспомнились слова Десмонда Мак-Карти: «Что бы ни случилось, никогда не следует забывать, что наши друзья остались все теми же». Высоко над башней крейсера зажегся световой сигнал — его непонятные для нас светящиеся точки и тире несли в мир какое-то сообщение.
Андре Жеро
(ПЕРТИНАКС)
Гамелен
Кто не знает позиции французского и английского правительства в течение долгого периода ожидания, предшествовавшего новой европейской войне? Как известно, решение дать отпор было принято лишь через 18 месяцев после того, как Германия начала опрокидывать пограничные столбы в Европе, то есть когда соотношение сил существенно изменилось и притом не в нашу пользу. Но деятельность французского генерального штаба в решающие годы — с лета 1935 года до лета 1939 года — все еще остается покрытой мраком неизвестности. Пришло время познакомиться с ней поближе.
7 марта 1936 года германские войска вступили в демилитаризованную рейнскую зону. Во главе французской армии стоял тогда генерал Гамелен, занимавший этот пост уже в течение 14 месяцев. Он проявил в данном случае некоторую осторожность. Он не отказывался оккупировать Саарскую область; но он не соглашался с премьер-министром Сарро, который считал нужным мобилизовать только три последних контингента запасных. Гамелен говорил, что если предпринимать какие-либо военные операции, то правительство должно быть готово довести их до конца и, в случае необходимости, объявить всеобщую мобилизацию. Французский военный аппарат не обладал гибкостью. Пускать его в ход частично — значило бы рисковать общей аварией. Мы тогда впервые стали догадываться, какими неприятностями грозит недостаток гибкости — недостаток, за который нам пришлось так жестоко поплатиться в 1940 году. Впрочем, Гамелен одновременно дал понять, что при правильном использовании нашего военного механизма, он вполне уверен в его непобедимости.
В начале сентября 1938 года, во время нюрнбергского съезда, генерал Гамелен снова выступил на авансцену. В сопровождении генералов Жоржа и Бийотта он посетил премьера Даладье и заверил его, что демократические державы смогут «диктовать мир».
25 сентября того же года на совещании в Лондоне (состоявшемся сейчас же после поездки Чемберлена в Годесберг) он высказался в том же духе в присутствии Чемберлена, сэра Томаса Инскипа, Даладье и французского посла в Англии Корбена. А когда он узнал, что Боннэ тенденциозно истолковывает некоторые его заявления и что это встревожило Чемберлена и лорда Галифакса, Гамелен обратился к английскому военному министру Хор-Белиша с письмом, в котором точно определил свою позицию.
Накануне Мюнхена генерал Гамелен еще раз изложил свою точку зрения. В письме к Даладье он подробно объяснил, до каких пределов, по его мнению, можно итти на уступки Гитлеру. Он подчеркивал, что нельзя отдавать немцам ни главной линии чехословацких укреплений, ни стратегических железнодорожных путей Чехословакии, ни чехословацких военных заводов.
14 марта 1939 года, через 6 месяцев после Мюнхена, я встретился с генералом Гамеленом на обеде у одного из иностранных послов. Германские войска шли в это время на Прагу. Никто уже не рассчитывал, что германский разлив можно остановить дипломатическими переговорами или каким-нибудь компромиссом; это можно было сделать только силой. Я спросил Гамелена, не является ли обстановка сейчас менее благоприятной, чем до Мюнхена. «Несомненно, — ответил он и добавил: — В конечном счете мюнхенское соглашение обернулось против нас». И он начал объяснять почему. Германская армия усилилась как количественно, так и качественно. Если в 1938 году насчитывалось лишь 100 германских дивизий (причем 50 из них были недостаточно обучены и недостаточно укомплектованы опытными офицерскими кадрами), то теперь у Германии 140 дивизий. Вместо трех бронетанковых дивизий 1938 года, Германия располагает теперь пятью, и вскоре эта цифра удвоится. Три чехословацкие бронетанковые дивизии не только войдут в состав германской армии, но и снабдят ее ценными образцами вооружения.
Воздушный флот Геринга насчитывает теперь около 6 000 самолетов против 3 500 или 4 000 в прошлом году. Линия Зигфрида, состоявшая в 1938 году почти исключительно из полевых укреплений, теперь сооружена наново из бетона и стали. Германская военная промышленность работает с полной нагрузкой, тогда как французские инженеры все еще спорят о преимуществах различных моделей и ломают голову над всевозможными производственными проблемами. И, наконец, в руки немцев попала не только материальная часть 30 чехословацких дивизий и всех чехословацких укреплений, но и превосходнейшие чехословацкие заводы, которые уже начали работать для Германии.
Но несмотря на все это, несмотря на то, что, по его собственному признанию, наши силы сократились по сравнению с германскими (за исключением авиации; здесь отставание франко-британской авиации, пожалуй, уменьшилось с пропорции 1:10 до 3:10), Гамелен попрежнему был уверен в победе союзников. В июле я снова встретил его. Он все еще не потерял своей уверенности. Гамелен считал, что война начнется примерно в двадцатых числах сентября. По его предположениям, Муссолини настаивает на оттяжке до первых снегопадов, так как тогда Италии легче будет оборонять Альпы.