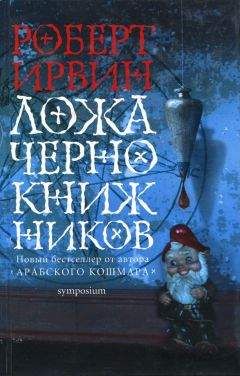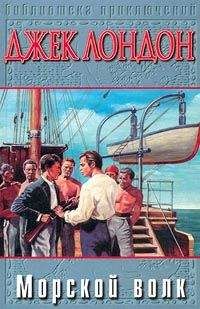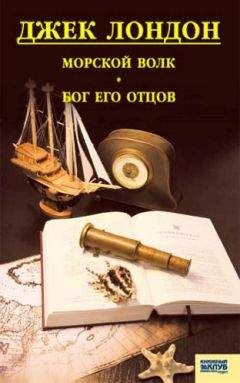Роберт Робинсон - Чёрный о красных: 44 года в Советском Союзе
Угрюмость, непредсказуемость поведения, а часто и грубость, свойственные многим русским, замечают только те из иностранцев, которые живут среди них годами, поскольку во время непродолжительного общения русские способны сдерживаться. Прожив в Советском Союзе первые десять лет, я достаточно насмотрелся на русских, чтобы понять: если я решусь жениться, то, как в случае с некоторыми из моих друзей-иностранцев, жена может оказаться для меня неразрешимой загадкой.
В Кампале я мог свободно общаться с женщинами. Мне больше не нужно было подозревать, что они действуют по заданию тайной полиции, которая вознамерилась проникнуть в мою личную жизнь.
Теперь я открыто молился, не опасаясь, что меня объявят врагом народа. Время шло, и я смог посмотреть на свою жизнь в СССР со стороны. Я понял, что каждый год приносил мне новые испытания. Постоянная борьба за выживание не прошла бесследно. Несмотря на все мои усилия, система, климат и люди сделали свое дело, и подобно моим русским знакомым, я стал подозрительным, недоверчивым, а временами — и вовсе параноиком. У меня не хватало сил, чтобы поддерживать жизнь души. Я старался не поддаться заботам о пище, жилье и теплой одежде, но часто чувствовал, что проигрываю эту битву.
Как христианин, я знал, насколько важно отстраняться от мирских забот. И еще я знал, что если изо дня в день не работать над собой, не воспитывать в себе стойкость, доброту, бескорыстие, любовь, уподобишься животному. Должен признаться, что в России временами я чувствовал себя зверьком в клетке: забившись в свою комнату, я боялся выйти, проверял, хорошо ли заперта дверь и есть ли в доме хлеб. Я замыкался в себе. Знал, что так нельзя, но не хватало сил с этим бороться. Мечтал о свободе и жалел, что позволил тяготам жизни в полицейском государстве лишить меня тех добродетелей, которыми я, кажется, обладал по приезде. Я молился каждый день, но в периоды уныния мог лишь вопрошать Господа, почему он забросил меня на чужбину. Я твердо знаю: мне помогло то, что, как бы тяжело мне ни было, я не переставал молиться. Никогда я не обвинял Господа в том, что он оставил меня, и никогда не забывал Его. И как только заканчивалась полоса уныния, я просил у Господа прощения.
Как же трудно было противостоять вездесущим и могучим силам, стремящимся уничтожить веру в Бога! В то время как в Америке обсуждали конституционность ежедневной молитвы в школах, я жил в стране, где упоминать имя Господа разрешали только атеистам, Его поносящим. Даже с друзьями, которых я знал многие годы, мы никогда не обсуждали вопросы веры. Религиозная жизнь предполагала одиночество. Меня мучило то, что я ни с кем не мог поделиться своими мыслями о Боге, кроме самого Господа. Во многих отношениях душевную боль было тяжелее переносить, чем голод. Физический голод можно было утолить пищей, а душевный продолжал терзать меня, пока я не уехал из СССР.
В Москве я каждое воскресенье, даже во время войны, ходил в католический храм. Я не католик, но доктрина значила для меня меньше, чем возможность оказаться среди братьев-христиан. Храм, посещаемый в основном иностранцами, находился в центре города, напротив здания КГБ. Когда я подходил к храму или выходил из него, я неизменно видел в окнах этого учреждения лица соглядатаев. Это мало что меняло, я привык к постоянной слежке. В каком-то смысле я даже был доволен: раз уж они за мной и так следят, пусть лучше знают, что я верующий. Это был мой способ заявить о своей вере в Господа и бросить вызов той духовной и эмоциональной нищете, которая грозила меня поглотить.
В конце тридцатых годов, на исходе моего четырехлетнего срока пребывания в Моссовете, ко мне домой, под предлогом дружеского визита, явилась делегация с завода. Их интересовали мои политические и религиозные взгляды. На вопрос, верю ли я в Бога, я прямо и безбоязненно ответил утвердительно. На этом мое депутатство в Моссовете закончилось.
Для меня отказаться от веры значило бы потерять все. Я никогда не изменял своей вере в Бога, и думаю, что именно поэтому Он никогда не оставлял меня своей заботой. Я пережил чистки, невыносимые холода, голод, утрату друзей, серьезную болезнь, войну, ухищрения советской бюрократии и тайной полиции. Одно то, что меня миновали чистки, было доказательством Его существования.
В Уганде я мог открыто исповедовать свою веру. Я также научился свободно дышать и преодолевать подозрительность и недоверчивость, выработанные жизнью в Советском Союзе. Наконец, я перестал проверять, нет ли за мной слежки, и ожил. Однажды, когда я шел к своему другу, проезжавший мимо лимузин загудел и остановился. Из машины вышел советский консул. «Куда направляетесь, мистер Робинсон?» — спросил он. Я ответил, что иду в гости, и он предложил меня подвезти. Отказываться я не стал по двум соображениям. Во-первых, Советы заверили Амина, что я могу остаться в Уганде, и я был уверен, что они не станут портить отношения с ним только ради того, чтобы попытаться вернуть меня в СССР. Во-вторых, мне хотелось показать советскому консулу, что я не боюсь. Жизнь в России научила меня, что стоит на минуту дрогнуть, показать, что боишься, дать почувствовать свою уязвимость, и они не остановятся, пока окончательно тебя не сломают. Жизнь представляла собой постоянную, ежедневную душевную борьбу.
Глава 34
Женитьба и отъезд
Примерно через год после приезда в Уганду я познакомился с женщиной, которая стала моей женой. Зильфа Мэпп была старшим преподавателем кафедры психологии педагогического колледжа Уганды, имевшего тесные связи с техническим колледжем, в котором я работал. Наши учебные заведения располагались по соседству, и с Зильфой я познакомился в общей преподавательской столовой.
Она слышала мое выступление в декабре 1975 года на частном приеме по поводу открытия книжной выставки, организованной Национальным духовным собранием Бахай в Уганде, и, увидев меня в столовой, поздоровалась. Я пригласил ее за свой столик. Постепенно мы подружились. Оказалось, что у нас много общих интересов: мы вместе слушали классическую музыку, гуляли, обсуждали планы на будущее. Зильфа — американка. Она окончила аспирантуру по педагогике при Массачусетском университете и в 1970 году приехала в Уганду как последовательница религии Бахай, чтобы помочь развивающейся стране.
Мы уже встречались с Зильфой, когда в Уганду приехал Дадли Томпсон, член Народной национальной партии Ямайки, занимавший пост министра иностранных дел. Как мне сообщили, министр вы разил желание со мной познакомиться. Он принял меня в посольстве Ямайки. Оказалось, что Дадли, недавно узнав обо мне, захотел услышать мою историю из первых уст. «Мистер Робинсон, — сказал он, — у меня сейчас слишком мало времени, поэтому, если это возможно, я бы хотел, чтобы вы завтра же полетели со мной на Ямайку».
Такого я не ожидал. «Простите, мистер Томпсон, но у меня здесь контракт, — сказал я. — Уганда оказала мне гостеприимство, и я не могу бросить работу и уехать из страны завтра. Мне очень жаль, потому что я высоко ценю ваше приглашение. Если возможно, я приеду в следующем году во время отпуска». Министр согласился и предложил помочь с визой, ведь паспорт-то у меня был советский. Все складывалось как нельзя лучше.
Хотя больше всего я мечтал вернуться в Америку, я считал, что шансов на это у меня почти нет. В США у меня был статус натурализованного гражданина, но судя по тому, как отнесся ко мне сорок лет назад в Москве посол Буллит, в моем досье в Госдепартаменте и Службе иммиграции и натурализации содержались некие порочащие меня сведения, которые могли послужить основанием для запрета на въезд в страну. Единственным американцем, к которому я мог обратиться за поддержкой, был Билл Дэвис, профессиональный дипломат, работавший в Информационном агентстве США. Мы познакомились в Москве в 1959 году и потом встречались каждый раз, когда он приезжал в СССР. Оказавшись в Уганде, я сразу сообщил об этом своему другу, в надежде, что он поможет мне вернуться в США. Надежда, правда, была слабой. Гораздо более вероятным было получить гражданство Ямайки, где я родился.
Когда пришло время отпуска, я получил, при поддержке Томпсона, визу и полетел на Ямайку. Там я обратился с просьбой о предоставлении гражданства и заполнил все необходимые анкеты. И сообщил обо всем Биллу Дэвису.
Пошел второй месяц ожидания, а вопрос о моем гражданстве оставался открытым. Думаю, что дело было в той самой статье в «Gleaner», о которой рассказал мне много лет назад в Москве ямайский священник. В этой статье меня представили как чернокожего уроженца Ямайки, который собирается вернуться на родину, чтобы совершить там социалистическую революцию.
Прождав восемь недель, я обратился к Томпсону, который по-прежнему был министром иностранных дел: дольше ждать я не мог и вынужден был возвратиться в Уганду. Томпсон сказал, что все, что мне нужно, — это принести фотографии. Я так и сделал, и на следующий же день получил временный документ, дававший мне право через год вернуться на Ямайку и получить паспорт.