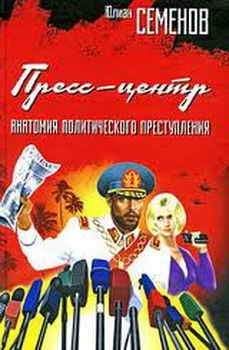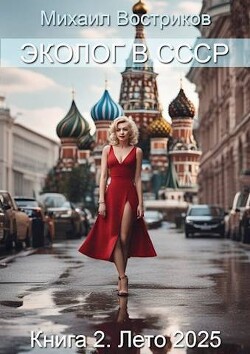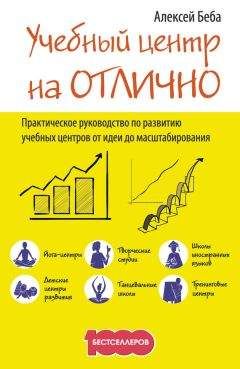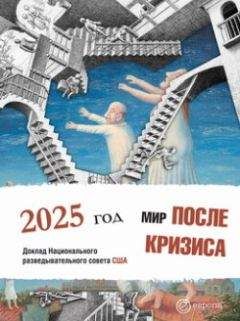Анатомия «кремлевского дела» - Красноперов Василий Макарович
Двадцать третьего марта допросили и только что арестованного Андрея Свердлова. У него при обыске нашли троцкистскую платформу, полученную в 1927 году от Вадима Осинского. На вопрос следователя Горбунова, для чего же он преступно хранил контрреволюционный документ, Андрей простодушно ответил:
Я хранил этот документ несмотря на то, что знал, что этот документ контрреволюционный, что хранение его является преступлением, – потому что считал, что мне как сыну Я. М. Свердлова это пройдет безнаказанно [569].
Тут следователь счел нужным припугнуть молодого человека, дав ему понять, что подозревает его в троцкизме, и приступил к расспросам об Азбеле и Белове. Очень скоро дело дошло до злополучной встречи у Слепкова. Поняв, куда ветер дует, Свердлов решил сознаться:
В 1930 г., придя к Белову вместе с Вадимом Осинским, я там встретил Азбеля Давида, и мы вчетвером, вначале в комнате Белова, а затем в комнате Слепкова, – обсуждали вопросы так называемой правой оппозиции; Слепков, а затем и пришедший Бухарин, доказывая неправильность генеральной линии партии, в злобно-враждебном тоне отзывались о Сталине. После того, как мы… вышли из квартиры Белова, я – под прямым впечатлением разговоров Бухарина и Слепкова о Сталине – заявил, что Сталина надо убить. Белов, Азбель и Осинский к этому заявлению отнеслись одобрительно [570].
Получив это показание, следователь уже иначе как террористом Свердлова не называл. Похолодевшему от страха Андрею Горбунов напомнил о закрытом письме ЦК об уроках убийства Кирова, как бы намекая, что Свердлова-младшего может ожидать та же судьба, что постигла 14 расстрелянных за убийство Кирова ленинградцев, и предложил приступить к откровенному рассказу о подготовке теракта. Сюжет о “молодежной террористической группе” вот-вот должен был приобрести законченную форму. Но тут произошла осечка, этот орешек все же оказался “органам” не по зубам – вмешались высокопоставленные родители арестованных. В 1935 году члены кремлевской элиты, опираясь на былые заслуги перед партией, еще имели возможность добиться вызволения своих детей из чекистских лап. 22 марта Клавдия Новгородцева-Свердлова, “молчаливая, равнодушная, сухая, бесцветная, не запомнившаяся ничем” (как охарактеризовала ее в мемуарах сестра Вадима Екатерина Осинская), написала письмо Ежову, в котором довела до сведения КПК (в лице того же Ежова) факт ареста сына, однако сообщила, что из‐за секретности (она работала цензором) не может информировать об аресте сына организации, с которыми она связана по производственной или партийной работе [571]. Никого об аресте не информировали ни сестра Андрея Свердлова Вера, ни его жена Нина Подвойская. А Валериан Осинский (кандидат в члены ЦК, но в прошлом и подписант печально знаменитого “заявления 46‐ти”) после ареста сына направил письмо самому Сталину, уверяя того, что сын ни в чем не виноват, и требуя ознакомить его с обвинениями и с протоколом допроса сына в НКВД, а также дать ему свидание с Вадимом. Сталин в тот же день, 26 марта, переправил это письмо членам Политбюро Орджоникидзе, Молотову, Ворошилову и Кагановичу с припиской “Предлагаю удовлетворить просьбу т. Осинского” [572]. К тому времени вождь уже успел ознакомиться с протоколами допросов Давида Азбеля, Виктора Белова и Андрея Свердлова. Дело могло принять нежелательный для Валериана Осинского оборот – трое подследственных признали факт разговора об убийстве Сталина. Но Вадим Осинский еще даже не был допрошен, и в итоге оказалось, что в дурацкое положение попала верхушка СПО в лице Молчанова, Люшкова и особенно следователя Горбунова. Узнав о необходимости готовить свидание Осинского-отца и Осинского-сына, чекисты засуетились. Сразу же допросили Вадима Осинского, но беда заключалась в том, что перед свиданием с отцом неудобно было применять слишком уж “интенсивные” методы допроса. А Вадим на допросе, как назло, категорически не желал признаваться в том, что слышал фразу Свердлова “Кобу надо кокнуть”. Он подтвердил, что был в гостях у Белова и присутствовал при разговоре со Слепковым, но при этом заявил, что взглядов Слепкова не разделял. Отрицал он и наличие у себя желания вести борьбу с партийным руководством. Что касается злополучной фразы, то он прибег к ненавидимому чекистами аргументу “не помню” [573]. Чекистам же надо было доказать, что он не только слышал фразу, но и согласился с ней. Следователь Горбунов предъявил ему признательные показания трех других участников беседы, включая самого Андрея Свердлова, но тщетно. У Вадима начисто отшибло память, и он ничем не мог помочь следствию. Единственным, чего удалось от него добиться, было:
Допускаю, что такой разговор имел место, это высказывание Свердлова моих настроений не отражало [574].
И ни на какие уговоры Вадим больше не поддавался. Наверное, верхушка СПО на какое‐то мгновение растерялась, но быстро взяла себя в руки. Был разработан некий план, и Горбунов приступил к его выполнению. На следующий день после допроса Осинского, 29 марта, был вновь допрошен Давид Азбель. Горбунов заставил его во всех подробностях воспроизвести обстоятельства разговора об убийстве Сталина (в протоколе даже нашло отражение высказывание Азбеля, направленное против “правых”: “Обмениваясь впечатлениями от встречи со Слепковым и Бухариным, мы касались вопроса внутрипартийного положения, причем я по адресу Слепкова и Бухарина заявил: “Когда они троцкистов били, им партийный режим не мешал” [575]). С особым вниманием следователь подошел к вопросу о восприятии участниками разговора злосчастной фразы “Кобу надо кокнуть”. Если в протоколе первого допроса Азбеля зафиксировано его довольно неопределенное показание о том, что “эта мысль Андрея Свердлова встретила общее наше сочувствие” [576], то теперь следователь счел нужным специально уточнить: “Осинский возражал против постановки Свердловым вопроса об убийстве тов. Сталина?” На что получил ожидаемый ответ: “Нет, не возражал” [577]. Выяснилось также, что не возражали и остальные присутствовавшие. На этом второй допрос Азбеля был завершен, а что происходило дальше, нам, к сожалению, неведомо. Известно лишь, что через день, 31 марта, Вадим Осинский вдруг сам попросился на допрос, где его уже ждали Молчанов, Люшков и Горбунов. Выяснилось, что Вадим “неправильно ответил на вопрос следствия” о том, считал ли он необходимым вести борьбу с партийным руководством. Оказалось, что еще как считал. Да к тому же он еще “припомнил”, что
разговор об убийстве Сталина действительно имел место в 1930 году после нашего выхода из квартиры Белова, где мы были, как я уже показывал, вместе с А. Слепковым и откуда мы вышли вчетвером… [578],
но вот в каких именно выражениях Свердлов говорил о необходимости убийства Сталина, он все же так и не вспомнил. Зато в конце допроса подписался под следующей формулировкой:
Дополнительно вспомнил, что в 1930 году мы вместе с Свердловым, неоднократно обсуждая вопросы внутрипартийного положения, приходили к выводу, что устранение Сталина дало бы возможность вернуться к партийному руководству троцкистам. При этом мы одобрительно относились к убийству Сталина, однако практических путей к осуществлению этого убийства не намечали [579].
Таким образом, чекисты худо-бедно подготовились к визиту Валериана Осинского на Лубянку. Возможно, они даже радовались тому, что Сталин теперь сможет поиздеваться над Осинским-страшим. Тот получит возможность ознакомиться с признательными показаниями сына, и ему ничего не останется, как согласиться с действиями НКВД. Однако все вышло не так. Сталин в силу каких‐то причин решил пока что пощадить Свердлова и Осинского, тем более что за молодежь хлопотал не только Осинский-старший, но, по‐видимому, и вдова Якова Свердлова. Много позже, в 1953 году, Андрей Свердлов вспоминал в письме Г. М. Маленкову с просьбой о реабилитации: “В 1935 г. я был сурово наказан за свои прошлые ошибки. Меня арестовали и освободили только после вмешательства товарища Сталина, которому был передан написанный мною еще в 1931 г. документ, характеризовавший мое отношение уже тогда к правотроцкистской сволочи” [580]. О каком документе идет речь – неизвестно, но вряд ли он сыграл ключевую роль в освобождении молодых “террористов” – ведь Вадим Осинский к этому документу отношения не имел. (Свердлова арестовывали еще дважды; на второй раз, в 1952 году, он написал самому Сталину, вспоминая свой арест 1938 года, поводом для которого, по его словам, стали показания Осинского, “не содержавшие ни слова правды” [581], – у чекистов все шло в дело. В 1938 году его освободили, но в 1952‐м, в условиях гонений на “еврейских националистов” и разворота “дела Абакумова – Шварцмана”, об освобождении не могло быть и речи.) Но, по всей видимости, в 1935 году в планы Сталина входил удар лишь по Каменеву и Енукидзе, и вождь старался избегать ненужных помех и отвлечений. Поэтому он дал указание Ежову пригасить дело “младотеррористов”. Всех подробностей мы пока не знаем; известно лишь, что уже 10 апреля 1935 года освобожденные из заключения Осинский-младший и Андрей Свердлов предстали перед Ежовым, который сообщил им, что они смогут ходатайствовать о своем восстановлении в ВЛКСМ и ВКП(б) (Андрей Свердлов с 1932 года был кандидатом ВКП(б)) не ранее ноября, причем вопрос о восстановлении должен будет решаться соответствующими организациями Академии механизации и моторизации РККА, слушателями последнего курса которой молодые люди являлись на момент ареста. Нечего и говорить, что Свердлова и Осинского тут же восстановили по месту учебы, и растроганный Осинский засел за письмо вождю, которое нашел в себе силы закончить и отправить лишь 5 мая. В нем он униженно благодарил Сталина за “возможность возвращения в комсомол и партию и возможность продолжать учебу, несмотря на… величайшую вину”. А также за доверие, которое Сталин оказал Вадиму, несмотря на его враждебное отношение к вождю в 1930 году, что было, конечно, “чудовищной глупостью” с его стороны [582]. А 14 ноября 1935 года оба молодых человека написали Ежову однотипные записочки с просьбой дать указания по поводу того, какую легенду выдумать, чтобы не попасть впросак при обсуждении вопроса о восстановлении их в комсомоле и партии на собраниях первичных организаций [583]. На сегодняшний день неизвестно, как именно Ежов решил этот вопрос.