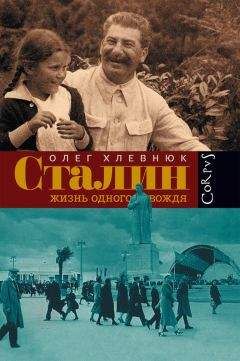Петр Кропоткин - Записки революционера
В Третьем отделении я застал Сашу. Нам дали свидание в присутствии двух жандармов.
Мы оба были очень взволнованы. Саша горячился и много ругал жандармов ворами. "Они все у тебя украли: я не нашел в твоих бумагах таких-то документов, таких-то бумаг". Все эти бумаги за несколько часов до моего ареста я препроводил в такое место, где бы жандармы не могли их найти. Я старался дать ему понять это, шепча на всех языках: "Оставь это!" Он не унимался. "Да нет, я не хочу этого оставить: я разыщу документы". Насилу мне удалось шепнуть по-французски, что бумаги взяты не жандармами.
Саша поднял на ноги всех наших ученых знакомых в Географическом обществе и Академии наук, чтобы добыть мне право писать в крепости. Перо и бумага строго запрещены в крепости, но если Чернышевскому и Писареву было позволено писать, то на это требовалось особое разрешение самого царя.
Саша принялся хлопотать через всех ученых знакомых. Географическому обществу хотелось получить мой отчет о поездке в Финляндию, но оно, конечно, и пальцем бы не двинуло, чтобы получить разрешение мне писать, если бы Саша не шевелил всех. Академия наук была также заинтересована в этом деле.
Наконец разрешение было получено, и в один прекрасный день ко мне вошел смотритель Богородский, говоря, что мне разрешено писать мой ученый отчет и что мне нужно составить список книг, которые мне нужны. Я написал полсотни книг, и он пришел в ужас. "Столько книг ни за что не пропустят, - говорил он, - а вы напишите книг пять-десять, а потом понемногу будете требовать, что вам нужно". Я так и сделал и наконец получил книги, перо и бумагу. Бумага мне выдавалась по стольку-то листов, и я должен был счетом иметь ее у себя в полном комплекте; перо же, чернила и карандаши выдавались только до "солнечного заката".
Солнце зимою закатывалось в три часа. Но делать было нечего. "До заката", - так выразился Александр II, давая разрешение.
II
Научная работа в крепости. - Изучение истории России
Итак, я мог снова работать.
Трудно было бы выразить, какое облегчение я почувствовал, когда снова мог писать. Я согласился бы жить всю жизнь на хлебе и воде, в самом сыром подвале, только бы иметь возможность работать.
Я был, однако, единственный заключенный в крепости, которому разрешили письменные принадлежности. Некоторые из моих товарищей, которые провели в заключении три года и даже больше, до знаменитого процесса "ста девяносто трех", имели только грифельные доски. Конечно, в страшном уединении крепости они рады были даже доске и исписывали ее словами изучаемого иностранного языка или математическими формулами. Но каково писать, зная, что все будет стерто через несколько часов!
Моя тюремная жизнь приняла теперь более правильный характер. Было нечто непосредственно наполнявшее жизнь. К девяти часам утра я уже кончал мои первые две версты и ждал, покуда мне принесут карандаш и перья. Работа, которую я приготовил для Географического общества, содержала кроме отчета о моих исследованиях в Финляндии еще обсуждение основ ледниковой гипотезы. Зная теперь, что у меня много времени впереди, я решил вновь написать и расширить этот отдел.
Академия наук предоставила в мое распоряжение свою великолепную библиотеку. Вскоре целый угол моей камеры заполнился книгами и картами, включая сюда полное издание шведской геологической съемки, почти полную коллекцию отчетов всех полярных путешествий и полное издание "Quarterly Journal" Лондонского геологического общества.
Моя книга в крепости разрослась в два больших тома. Первый из них был напечатан братом и моим другом Поляковым (в "Записках" Географического общества); второй же, не совсем оконченный, остался в Третьем отделении после моего побега. Рукопись нашли только в 1895 году и передали Русскому географическому обществу, которое и переслало ее мне в Лондон.
В пять часов вечера, а зимой в три, как только вносили крошечную лампочку, перья и карандаши у меня отбирались, и я должен был прекращать работу. Тогда я принимался за чтение, главным образом книг по истории. Прочел я также много романов и даже устроил себе род праздника в сочельник. Мои родные прислали мне тогда рождественские рассказы Диккенса. И весь праздник я то смеялся, то плакал над этими чудными произведениями великого романиста.
III
Прогулка в тюремном дворе. - Арест брата. - Месть Третьего отделения
Хуже всего было полное безмолвие вокруг, невозможность перекинуться словечком с кем бы то ни было. Мертвая тишина нарушалась только скрипом сапог часового, подкрадывающегося к "иуде", да звоном часов на колокольне. Я понимаю, что нервного человека этот звон может доводить до отчаяния. Каждые четверть часа колокола звонят "господи помилуй", раз, два, три, четыре раза. Каждый час после медленного перезвона колокол начинает мерно отбивать часы, а затем начинается перезвон "Коль славен наш господь в Сионе"; зимою, при резких переменах температуры, все колокола отчаянно фальшивят, и эта какофония, точно похоронный перезвон в монастыре, длится добрых пять-шесть минут. А в двенадцать, после всего этого, часы отзванивают еще более фальшиво "Боже царя храни". Днем все это хоть немного заглушается городским шумом, но ночью весь этот звон как будто тут, где-то вблизи, и, слушая бой колоколов каждые четверть часа, невольно думаешь о том, как прозябание узника идет бесплодно вдали от всех, вдали от жизни. "Еще час, еще четверть часа твоего бесплодного прозябания прошли", напоминают колокола, и никто не знает, даже сам, кто тебя здесь держит, сколько еще пройдет таких бесплодных часов, дней, годов... много годов, может быть, раньше, чем вспомнят тебя выпустить, или болезнь и смерть откроют тебе двери тюрьмы...
Мертвая тишина кругом...
Напрасно пробовал я стучать в подоконницу направо - нет ответа, налево - нет ответа. Напрасно стучал я полною силою разутой пятки в пол в надежде услыхать хоть какой-нибудь, хоть издалека, неясный ответный гул его не было ни в первый месяц, ни во второй, ни в первый год, ни в половине второго.
Меня перевели в нижний этаж, покуда верхний чистили или переделывали. Еще меньше света проникало там в каземат, и неба вовсе не было видно; только грязная серая стена из дикого камня стояла перед глазами, и даже голуби не прилетали к окну. Еще темнее было мне чертить свои карты, и только мои крепкие близорукие глаза могли выдерживать мелкую работу ситуаций на маленьких картах, которые я готовил для своего отчета.
Но и там, внизу, ниоткуда не мог я добиться хотя бы глухого стука в ответ на мой стук.
Каждый день, если дождь не лил или пурга не мела, меня выводили гулять. Часов около одиннадцати являлся унтер в мягких войлочных галошах сверх сапог и вносил мою одежду: панталоны, сюртук, сапоги, шубу. Я торопился одеться и радовался, если успевал пройти десяток раз из угла в угол - лишь бы услыхать звук своих собственных шагов...
Если я спрашивал крепостного унтера, приносившего платье, хороша ли погода, нет ли дождя, он испуганно взглядывал на меня и уходил, не отвечая; караульный солдат и унтер из караула стояли в дверях и не спускали глаз с крепостного унтера, готовые сфискалить, если бы он заговорил со мною.
Затем меня вели гулять. Я выходил во внутренний дворик редута, где стояла банька и прохаживались два солдатика из караула. Я пытался с ними заговорить, но они молчали.
Я ходил, ходил вкруговую по тротуарику пятиугольного дворика, и изо дня в день видел все то же и то же. Изредка воробей залетал в этот дворик; иногда, когда вокруг ветер был с той стороны, тяжелые хмурые пары, выходящие из высокой трубы монетного двора, окутывали наш дворик, и все начинали отчаянно кашлять. Иногда, очень редко, видел я девушку, должно быть дочь смотрителя, выходившую из его крыльца и проходившую шагов десять по тротуару, в ворота, которые тотчас запирали за нею, затем слышался стук другой отпертой калитки, стало быть, она вышла. Она выходила обыкновенно из своей квартиры тогда, когда я был на другой стороне дворика; а если я слышал звонок у калитки и она входила во дворик, возвращаясь домой, ее пропускали тоже так, чтобы не встретиться. И она торопилась пройти, не смея взглянуть, как бы стыдясь быть дочерью нашего смотрителя.
Еще, на праздниках, я несколько раз видел кадетика лет пятнадцати сына смотрителя. Он всегда так ласково, почти любовно смотрел на меня, что, когда я бежал, я сказал товарищам, что мальчик, наверное, симпатично относится к заключенным. Действительно, я узнал потом, в Женеве, что, едва он вышел в офицеры, он присоединился, кажется, к партии "Народная воля", помогая переписке между революционерами и заключенными в крепости; затем его арестовали и сослали в Восточную Сибирь, в Тунку.
Еще помню я, что летом около бани выросло несколько цветов; голые, худосочные, они все-таки пробились сквозь камни мощеного дворика на южной стороне бани, и, увидав их, я сошел с тротуарика и подошел к ним. Оба сторожа и унтер бросились ко мне: "Пожалуйте на тротуар". Я подошел к цветкам. Все три стража уставились на меня, стоя вокруг меня, - все удовольствие было испорчено, и я более не стал подходить к цветам.