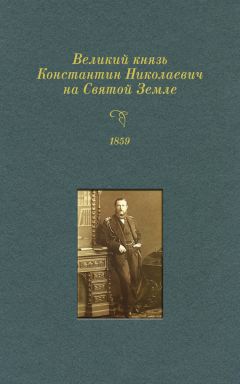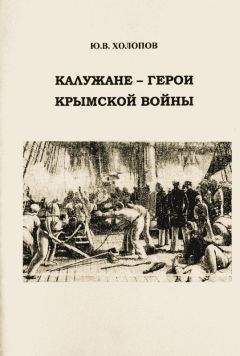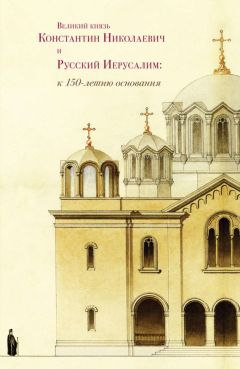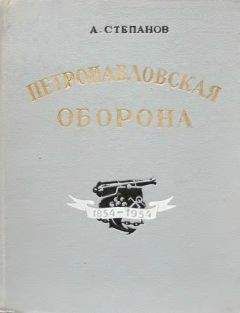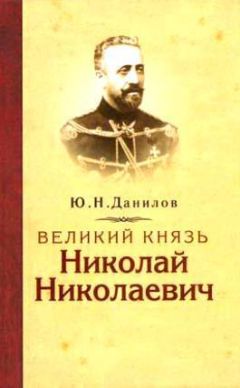Сергей Максимов - Год на севере
Путь от Нюхчи до Унежмы был последним карбасным путем, так сильно утомившим и опротивевшим в течение с лишком двух долгих месяцев. С Унежмы начинался иной путь и новый способ переправы, мною еще ни разу в жизни не изведанный и предполагавшийся лучшим.
Помню, когда, к неописанному моему счастию, проширкал наш карбас своей матицей килем — для меня в последний раз по коргам и стал на мель, я нетерпеливо бросился вперед по мелководью оставшегося до берега моря вброд. Помню, что с трудом я осилил гранитную крутую вараку, выступившую мне навстречу и до того времени закрывавшую от нас селение. Помню, что наконец осилил я щелья, переполз через все другие спопутные, перепрыгнул через все каменья и скалы и, освободившись от этих препон, бежал, — бегом бежал в селение. Я не замечал, не хотел замечать, что небо задернулось тучами и сыпало крупным, хотя и редким дождем; я видел только одно — вожделенное селение Унежму — маленькое с небольшой церковью, которая скорее часовня, чем церковь. Я ничего в этот раз не знал, что со мною будет дальше: так ли будет дурно, или еще хуже. Я хотел знать и знал только одно, что меня не посадят уже в мучительный карбас и не стеснят будкой и капризами моря. Я хорошо знал и, признаюсь, как дитя радовался тому, что привезший меня карбас пойдет отсюда назад в бесприветную Нюхчу, и что, если я захочу сам, меня не повезут до Ворзогор прямым ближним путем, но путь этот идет опять-таки морем, опять-таки в карбасе. Нет, лучше возьму дальнейший, более поучительный путь и в первый раз в жизни попробую ехать верхом во что бы то ни стало, чем сяду опять в докучливый карбас.
— Давай, брат, мне лошадей!
— Готовы, — отвечал староста, — Вещи на тележку-одноколочку положу и сам сяду, а то тебе марко будет и неловко сидеть: грязью закидает, да и коротка таратаечка, — еле чемодан-от твой уложился... А вот и тебе конек. Не обессудь, коли праховой такой да не ладный: сена-то ведь у нас не больно же много живет, а овсеца-то они у нас сроду не видят.
Мы ехали дальше. Я мчал во всю прыть, насколько позволяли делать то скудныё силы клячи и чудная, ровная дорога куйпогой, то есть по песку, гладко обмытому и укатанному до подобия паркета недавно отбывшей водой. Виделись лишь калужины с водой, еще не просохшей и застоявшейся в ямах. Виделся песок, несметное множество белых червей, выползавших из-под этого песку на его поверхность; кое-где кучки плавнику — щепок, наметанных грудами морем; выяснился лес, черневший по берегу, речонка, выливавшаяся из этого леса, дальние селения впереди, из которых одно было самое дальнее — Ворзогоры. Назади едва поспевала за мною одноколка с чемоданом и ящиком. Я ощутил крайнее неудобство моего седла, кажется, сделанного с тою преимущественною целью, чтобы терзать все, что до него касается: стремена рваные, высоко поднятые и неспособные опускаться ниже. Я мчал себе, мчал во всю немногую силу свой лошаденки, пугливой и в то же время, к полному счастью, послушной. Как бы то ни было, но только в четыре часа с небольшим я успел сделать на коне своем тридцать верст перегону до села Кушереки. Вспоминались мне уже здесь таможенные солдаты, бродившие по улице Унежмы, бабы, ребятишки, мужики, рассказы моего ямщика о том, что здешний народ весь уходит на Мурман; что дома иногда строят они суда и даже лодьи, промышляют мелких сельдей и наваг на продольники; что попадают также сиги, что хлебом пользуются они отчасти из следующего по пути селения Нименги. Вспоминаются при этом кресты, так же, по обыкновению поморских берегов, расставленные и по улицам покинутой Унежмы. Видится, как живой, один из таких крестов под навесом, утвержденным на двух столбах. Вспоминаются бабы на полях, подсекавшие траву, перевертывая коротенькую косу-горбушу с одной стороны на другую. Вспоминаются почему-то и картины, развешенные по стенам станционной квартиры: «Диоген с бочкой и Александр Македонский перед ним в шлеме»; «Крестьянин и Разбойник» (басня); «К атаману алжирских разбойников представляют бежавшую пленницу»; «Жена вавилонская, апокалипсис глава седьмая-на-десять»; «Дмитрий Донской»; «О богаче, дающем пир, и почему они не пришли», и прочие.
Ожидают новые впечатления, требуют внимания новые серьезные данные: перед окнами расстилается новое селение — Кушерека, людное, одно из больших и красивых сел Поморского берега. Село это строит малые суда (лодьи весьма редко). За три версты до селения по унежемской дороге в трех сараях варят соль. Село имеет церковь, не так древнюю и, вместе с тем, не оригинальной архитектуры, имеет реку Кушу, мелкую, но бочажистую (ямистую) и порожистую. Народ ходит на Мурман: обрадовавшись уходу англичан, на этот раз ушел туда почти весь. Ловится семга в заборы, в те же мережки, называемые здесь уже нёршами, попадают корюха, камбала; кумжу (форель) ловят сетями; ловят также по озерам мелкую рыбу для домашнего потребления и по зимам удят наваг для продажи. Озерная рыба и здесь не в чести, ни щуки, ни меньки (налимы), ни прочая мелкая: избалованные морскими рыбами, хвастливые поморы сложили даже такую поговорку: «карельска рыба — не рыба: лонски сиги — не сиги», или с таким изменением: «карельски сиги — не рыба, деревенска рожь — не хлебы»...
От Кушереки до Малошуйки считают почтовым трактом пятнадцать верст. Дорога идет сначала горой, потом спускается в ложбину, как будто в овраг какой-то. Подкова лошади не звенит о придорожный гранит и не врезывается в рыхлую тундру или летучий песок. Влеве видится узкая полоса моря, как говорят, на восемь верст отошедшего в сторону. Еще некоторое время чернеет Кушерека своими строениями, отливает крест ее церкви — и все это пропадает по мере того, как мы спускаемся в ложбину. Тут шумит бойкая, по обыновению говорливая речка; через речку перекинут мост, наполовину расшатавшийся и наполовину погнивший. Пришли на память в эту пору предостережения кушерецкого ямщика, который подвел ко мне лошадь с таким оговором:
— Конек маленький, а не обидит тебя: нарочно такого про твою милость выбрал.
Оставалось, конечно, поблагодарить, что я и сделал.
— Только ты под уздцы его не дергай — на дыбы становится, сбрасывает. Не щекоти опять же — задом брыкает. Не хлещи — замотает головой, замотает, не усидишь, хоть какой будь привышный. По весне-то его гад (змея) укусил.
— Так ты бы попользовал его.
— Пользовал: травы парили.
— Какие же?
— Голубенькие такие бывают цветочки...
— Словно бы колокольчики! — добавил другой мужик.
— А ты бы, Никифорушко, канфарой примочил, — вступился третий.
— А, ладно, — отвечал Никифорушко, — есть канфара-то; разносчики, вишь, у нас в деревне-то живут: есть, чай, у них. Ладно, ну!
Лошаденка, вопреки предостережениям, оказалась бойкою, не брыкливою и не тряскою, так что я успел даже приладиться ехать на ней вскачь, особенно после того, как дорога из ложбины потянулась в гору. Тянулась дорога эта по косогорью, кажется, две-три версты. Скакал мой конек, для которого достаточно было одного только взвизга, легкого удара поводьем, и вынес меня на гребень горы, на котором только что могла уместиться одна дорога: так узок и обрывист был этот гребень. Узеньким, хотя и замечательно гладким рубежком шла по этому гребню почтовая тропа, достаточная, впрочем, для того, чтобы пропускать верхового и потом одноколку также с верховым. Одноколка, с трудом поспевая за мной, плелась себе вперед, не задевая ни за придорожные пни, ни за сучья.
Мы продолжали между тем подниматься все выше и выше. Но вот впереди нас на спопутном холмике показался крест под навесом; рядом с ним другой. Гора здесь как будто надломилась и пошла вперед отлого вниз, заметно некруто, какими-то террасами, приступками. Но ехать дальше было невозможно. Я, как прикованный, остановился на одном месте и, как видно, самом высоком месте горы и дороги — на половине станции, как предупреждал ямщик раньше. Ямщик говорил еще что-то и долго и много, но я уже не слушал его: я был всецело охвачен чарующею прелестью всего, что лежало теперь перед глазами.
Высокие березы и сосны, не дряблые, но ветвистые, с бойкою крупною зеленью, провожавшие нас в гору, здесь раздвинулись, несколько поредели и как будто именно для того, чтобы во всей прелести и цельности открыть чудные окрестные картины! Пусть отвечают они сами за себя, очаровывая отвыкшие от подобных картин глаза, забывшие о них на однообразии прежних поморских видов.
Влево от дороги, по всему отклону горы, рассыпалась густая березовая роща, оживлявшая тяжелый, густой цвет хвойных деревьев, приметных только при внимательном осмотре. Роща эта сплошною непроглядною стеною обступила зеркальное озеро, темное от густой тени, наброшенной на него, темное оттого, что ушло оно далеко вниз, разлился под самой горой, полное картинной прелести, гладкое, невозмущаемое, кажется, ни одной волной. Солнце, разливавшее всюду кругом богатый свет, не проникало туда ни одним лучом, не нарушало царствовавшего там мрака. Мрак этот сливался с тенью берега, густой прибрежной рощи и расстилался по всёму протяжению рощи, поднимавшейся на берег озера, также в гору. Видно было, как постепенно склонялась она на дальнейшем протяжении, ре дела заметно, переходила в кустарник, пропадала в этом кустарнике. Пропадал и этот кустарник в спопутном песке. Песок тянулся немного; на него уже плескалось, набегало волнами своими море, у самого почти горизонта, далеко-далеко...