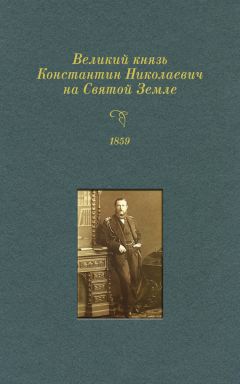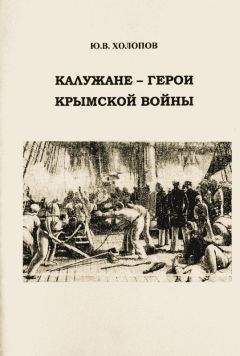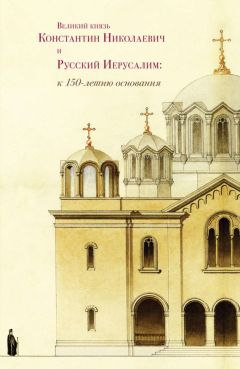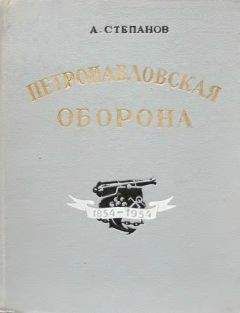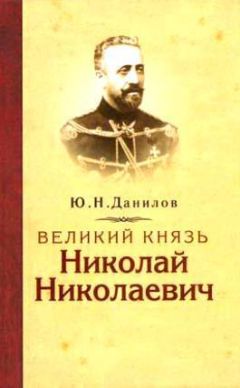Сергей Максимов - Год на севере
Село это разбросано в поразительном беспорядке и, вероятно, оттого, что первоначальные жители предпочитали близость моря удобству местоположения. Местность вплотную изрыта огромными скалами, неправильно раскиданными, отделяющими один дом от другого на заметно большие расстояния. Оба ряда домов идут по обеим сторонам речонки, на противоположной стороне которой видится церковь, мелькают флюгарки, вытянутые в прямое, колебательное положение; слышится ужасный свист ветра. Кормщик приносит не много радостей:
— Дождь перестал, а в море пыль стоит: обождать надо!
Между тем в Колежме положительно делать нечего. Промыслы колежомов сходны с сумскими: та же перекупка у сорочан сельдей, за которыми приезжают сюда зимой из Вологодской губернии; та же осенняя ловля наваг на уды. Судов здесь не строят, на лето уходят на Мурман: все, по обыкновению, точно так же ведется и здесь, как и во всяком другом селении Поморского берега.
От скуки смотришь в окно и видишь, что перестал дождь, ливший много и долго, выглянуло солнце, но и это увидело не много хорошего: ту же порожистую речонку, те же серые дома и бабу, которая, ухвативши неловко ребенка, выскочила, словно угорелая, из избы на улицу, обежала кругом клетушки, стоящей, по обыкновению, подле реки, раз, другой и третий. Баба задевала за каждый угол, за каждым углом что-то выпевала болезненно слабым голосом, словно совершала какое-то таинство, словно творила какой-то тайный, неведомый обряд. Из лепетанья ее удается поймать только несколько бессвязных слов: "ушли детки в богатые клетки". Ребенок все время молчит, словно спит, словно перепуган нечаянностью и крутыми порывами матери так, что не может прийти в сознание и заплакать. Мать продолжает бегать с ним кругом ругой клети, стоящей рядом с первою. На зрелище это собираются мальчишки, подходит колежом, отнимает у бабы ребенка со словами:
— Дай-ко сюда мне ребенка-то!
— Ребенок — не котенок! — отвечает баба, но отдает его и сама бежит на другой конец селения. Ребятишки и несколько праздных баб следуют за ней. В мою комнату входит кормщик с поразительно спокойным видом и тем же хладнокровно отвечает на вопрос мой: «Что это такое делалось перед окнами?»
— А, вишь, полоумная; на ребенке бес-от зло свое вымещает — порчена... Этак-то вот дня по два дурит, а затем и ничего: опять живет...
Что за причина болезни в этих странах, где так мало поводов к нервным болезням! Несчастный вид полоумной женщины, поразившей сразу общим тягостным впечатлением, не выходил у меня из головы и требовал справок. Настоящих собрать не удалось, но приблизительно объяснила повитушка-старуха, которая осматривала ребенка, нашла его уродом, всплеснула руками и, разумеется, не задумалась вскрикнуть во все горло и тогда же объявить всем окружающим до самой роженицы включительно. У последней, конечно, со стыда и испуга, бросилось молоко в голову.
— Чем прегрешила, за что божье наказанье?
— Ведь у тебя, кормилка, ребенок-от «распетушье»: страшное дело!
Страшное дело для матери, — с косвенным отношением неудачных и несчастных родов (по суеверным приметам) ко всему селению, где это случилось, — для меня стало ясным, когда объяснилось, что родилось дитя «ни мальчик, ни девочка». Здесь уже этой уродливости рождения придумалось новое слово на замену общего русского названия «двуснастным, двусбруйным, двуполым» и на отмену длинного, нескладного и непонятного чужого слова «гермафродит», составленного по греческой мифологии. Здесь домашним способом обходятся проще и удовлетворительно. Ребенка и потом взрослого парня, сохраняющего в чертах лица и характера нежную женственность с девичьими ухватками называют «девуля» и «раздевулье»: парень застенчив, на слово краснеет, стыдится того, чего мужчинам не следует, равнодушен к девкам и с ребятами не сходится. Другая женщина его не только заткнет за пояс, но и перехвастает. Она говорит мужским грубым голосом, в ухватках кажется богатырем. Ей бы кнут в руки, да на лошадь. Рукавиц с руки не снимает, любит обувать мужские сапоги и надевать мужичью шапку это — «размужичье». Таких смелых и грубых баб много в Коле, но зато там про себя делают и отличие: все-де бабы, как люди, а незамужние, вышедшие из лет, «залетные», как говорят в Поморье, грубеют, утрачивая женские свойства и размужичиваются, усваивая все мужские привычки и приемы, и даже предпочитают всегда одеваться мужчинами. В некоторых случаях — и не без основания — подозреваются и в этих женщинах «распетушья». Если и вырастет раздевулье в большого мужчину и даже женится, он все-таки останется «бабьяком бабеней». Точно также размужичье до крайнего возраста на старости «мужлан и бородуля», потому что у иных и бородка обозначаётся и на губах усы пробиваются с юношеских лет, чтобы так уже все знали и видели. Кстати сказать, счастливый ребенок, уродившийся со схожими помесными чертами и свойствами отца и матери, «балованное чадушко», на богатом архангельском языке называется «сумясок» — две полосы мяса, согласная и обещающая много хорошего помесь двоякой природы, благодатная и удачная смесь. Вообще должно заметить, что, распоряжаясь с успехом союзами «раз» и «со», коренная народная речь обогатилась не только красивыми словами, но и образно-понятными и внушительными.
Размышление мое прервал тот кормщик, который поразил меня равнодушием к участи колежомской порченой женщины. Он оповестил.
— Карбас готов, ваше благородие. Ветру выпало много, да он нам унос до Нюхчи...
Следующее утро осветило передо мною толпы народа, шедшие в церковь (был праздник Успения), осветило и самую церковь поразительно оригинальной архитектуры, выстроенную на высокой скале и тем же мастером, который строил и кольский собор. В здешней церкви четыре придела: Никольский, Богоявленский, Климента папы римского (особенно чтимого поморами) и святой Троицы. Построена она в 1771 году, освящена в 1774. две, бывшие прежде ее и на другом месте, сгорели. Внутренность существующей церкви довольно богата; староверов здесь заметно меньше, но все-таки существуют. В реке выстроен забор для семги с двумя маленькими вершами, которые называются здесь рюшками; вершина их зовется чупой; в них попадает рыбы мало и ее больше ловят поездами осенью. По веснам заходит сюда мелкая сельдь, которую также ловят и продают в Онеге и за Онегу; берут ее и карелы, и потом вялят, сушат и солят для себя. Сельдей в волости Владыченской меняют на хлеб и редко продают на деньги...
В 1590 году царь Федор Иванович подарил Нюхчу Соловецкому монастырю; в 1764 она, вместе с другими монастырскими волостями, отошла в ведение коллегии экономии.
Здесь все те сведения, которыми можно было воспользоваться в селе Нюхче. В селе два раза в год бывают крестные ходы из селения к часовне, построенной у Святого озера и Святой горы, совершаемые, говорит предание, в воспоминание избавления селения от Панька. Предание об этом Паньке и вообще о паньщине времени набегов на поморские селения литовских людей и русских изменников[52] — в памяти народа сливаются с преданиями о главной исторической достопамятности села Нюхчи — посещении Петром Великим, который вел отсюда две яхты по нарочно устроенной для этой цели дороге. От дороги этой, известной в народе под именем царской и государевой, до сих еще пор сохранились остатки. Та часть ее, которая ведет от села к Святой горе и Святому озеру, ежегодно поправляется и поддерживается по той причине, что здесь совершаются церковные крестные ходы в день Троицы и Покрова. Дальше на всем своем протяжении дорога эта значительно погнила и потерялась в болотинах и грудах гниющего валежника. Только, говорят, около Пулозера (в 45 верстах от Нюхчи) сохранился курган и подле него до сих пор валяется огромный дубовый кряжище-столб, стоявший, вероятно, на кургане, где сохранилась еще огромная яма.
Вот что записано в «Церковном памятнике села Нюхчи» об этом путешествии Петра Великого:
«В 1702 году проходил Петр с сыном своим Алексием и синклитом в Нюхчу с моря. Свиты его, кроме начальников, ближайших бояр, духовных особ и чиновных людей, было 4000 человек. Царь пристал из Архангельска чрез пролив океана на 13 кораблях под горою Рислуды а на малых судах пристал к Вардегоре; корабли изволил отпустить в Архангельск. От пристани царь шел в Нюхчу и изволил посетить село; отсюда пошел в Повенец мхами, лесами и болотами 160 верст, по которым были сделаны мосты олонецкого монастыря крестьянами. По этой дороге людьми протащены две яхты до Повенца, от которого Его Величество озером Онегою на судах поплыл в пределы Великого Новгорода и пришел к городу Орешку, что ныне именуется Шлиссельбург».
А вот что рассказывает о тех же событиях народное предание:
— Были на нашу сторонку многие божеские попущения и разные беды: приходили к нам грабить скот, воровать девок и маленьких ребятенков паны. Всякий панок, у которого были рабы свои, крестьяне бы по-нашему, волен был творить всякий разбой и грабительство. Эдакий-то один пришел и к нашему селению в старые времена. Тоже богатый был панок, и силу большую имел: много народу водил за собой (а сказывал мне все это старик-дедушка, а дедушке-то другой сказывал, а этому-то, другому, было восемь десятков лет: тот дело это сам видел). Грабил этот панок все деревушки поблизости: надумал сотворить то же и с нашим селом и силу распределил, и спать лег. Поутру проснулся, диво видит: бьют его воины всяк своего брата. Бьют они и рубятся и насмерть друг друга кладут: потемнились люди неведомой силой и помотались все в озеро, которое и прозвали с той поры «святым»; и гору подле тоже «святой» прозвали, затем, что спасение свое тут село наше получило.