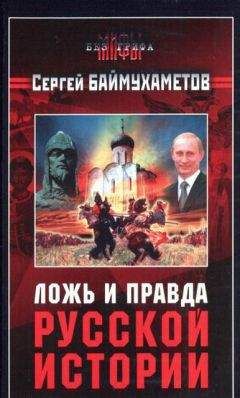Нина Молева - Московские загадки
Владения на Остоженке и в самом деле представляли покойную и широко раскинувшуюся усадьбу. До 1812 года они принадлежали одному из любимцев Павла I – К.Ф. Кноррингу. Кнорринг состоял генерал-лейтенантом при императоре, начальником Кавказской дивизии и главным командиром войск в Грузии в момент ее присоединения к России. При нем дом имел два этажа и хороший, окруженный служебными постройками сад. Но общая судьба многих московских домовладельцев тех лет – генералу оказалось не под силу восстановить свое хозяйство после Отечественной войны 1812 года. Кнорринг умер в 1820 году, так и не отстроив особняка.
Новым владельцем становится некий титулярный советник Д.Федоров, поставивший на старом фундаменте одноэтажный деревянный дом с порталом. Отделку дома завершает сменивший Д. Федорова в 1880-х годах гиттенфервальтер 10-го класса, иначе – служащий по Горному ведомству, Н.В. Дошаковский. В 1833 году дом так и был описан: «Деревянный жилой корпус на каменном фундаменте, обшит тесом, покрыт железом». Представленный на чертеже вид фасада значительно отличается от дошедшего до наших дней и восстановленного во время последнего ремонта: вместе колоннады – портал с тремя полукруглыми арками, вместо простых боковых окон – тройные с тонко прорисованными резными медальонами, имитирующими, как то часто делалось в Москве, лепные барельефы. Скорее всего, именно в таком виде дом на Остоженке и перешел в руки тургеневской семьи.
Жизнь здесь была трудной, подчас невыносимой из-за крутого нрава матери. На Остоженке Тургенев наблюдает трагедию своей будущей Аси, побочной дочери дяди по отцу, выданной в конце концов замуж за крепостного повара. Здесь родится его собственная дочь от белошвейки – Пелагея-Полина, воспитывавшаяся впоследствии в семье Виардо. В тех же стенах происходит драматический разговор матери с двумя сыновьями.
Никаких средств к существованию из своего огромного состояния Варвара Петровна не согласилась им дать. Все только из ее рук и по ее приказу. А между тем бедствовала семья старшего сына Николая, осмелившегося жениться на компаньонке матери, перебивался на скудные литературные заработки младший – любимец Иван. Возмущенная попыткой Ивана Сергеевича просить за брата, В.П. Тургенева отказала сыновьям от дома и предпочла в нем умереть в одиночестве под звуки оркестра, игравшего, по ее приказу, в соседнем со спальней зале веселые польки.
А между тем она отчаянно – иначе не скажешь, – всеми силами своей страстной натуры любит младшего сына, и это во многом ей Тургенев обязан своим литературным даром. Письма матери к «ее Ивану» говорят сами за себя:
«Вот чем начинается день мой: я просыпаюсь в 8 часов, звоню. Протираю глаза чаем с ромом, надеваю несмятый чепец, кофточку и беру молитвенник, читаю кафизму из Псалтиря. И чай готов, наливает в спальне Дуняшка; Псалтирь оставляется – первая чашка пьется. Между второй – всегда берутся карты, и гадаю, и ежели выйдет дама пик… – боже избави, особенно на сердце. Подается другая чашка; я обуваюсь, одеваю утренний костюм, молюсь Богу и иду… Птицы уже меня дожидают, пищат…
Утро начинается. В гостиной отгорожен к одному окну кабинет, с зеленью, стол письменный стоит… Вот я беру Кантемира. Кантемиром называется деревянный порт-папье с ручкой. Итак, беру Кантемира, пишу вчерашнего дня журнал…
«Однако, пора одеваться», – говорит Дуняшка, не удивляясь, что барыня утирает слезы… Это – не редкость для них. Смех – это другое, это в диковинку. Пора… пора… прости, до часу. Вот и два часа. Я занималась в отцовском кабинете, называемом бариновым. Что я делала? – Вошла, позвонила. Вошел дежурный мальчик с красненькой ленточкой в петлице. – «Дворецкого!» – Вошел дворецкий и повар с провизией. Говядины на бульон и прочее. Побранила повара… Они вышли… Вошли мальчики. Кто что вчера делал? Митька, Васька Лобанов и Николашка Серебряков. Рисовали… Каллиграфию… Читали… Вышли. Лобанов орлик мой! и улыбается – он не может больше – не знаю – чего? – Прежде бранила, наконец не замечаю. – Работы…
Садовники печи топили, цветы поливали… Столяр стол чистил, девушки то… и то. А вот и расходы, расходы в деревне: говядина, рыба, свечи, мыло, краски и прочее и прочие вздоры. Вот и пуза Серебрякова, а наконец и вся туша – вздыхает и опять вздыхает… Вворачивает словечко против дядюшки… против управляющего… Я будто не замечаю, а на ус мотаю… Иное – правда, другое – вздор – из чего вывожу свои рассуждения.
Вот и половина 12-го, девочка с чаем, т. е. грамматике конец. Конец… Нет, на конец тут-то все дела и найдутся. И то… и то… А между тем голуби – стук-стук в окно… гуль. гуль… ворку… ворку… Егорка, новый лакей, губошлеп, несет корм и мешок; голуби летят на него и, наконец, на крыльцо; на балконе дерутся, сердятся, ссорятся, а звонок бьет 12 часов, дети идут завтракать. А я запираю баринов кабинет, иду одеваться.
Вот я оделась, вот я в гостиной, глаз на глаз с портретом моего второго сына… Он большой негодяй, ленится ко мне писать, а когда пишет – как будто только по обязанности… к матери. А я какая мать, я друг моим детям, вся их, вся для них… Особенно этот Иван, мой друг, мой советчик; он понимает меня более. А я знаю его, как знаю сама себя… Сердце у него предоброе… а страсти, страсти готовы им овладеть, и он поддается им, хотя бы когда захотел, умел бы лучше хладнокровного их покорить… Но! – ему это трудно, и он пустит руки, как утопающий на моих глазах почтальон: держал, держал сук, выбился из сил… а бегут его спасать… Еще бы минуту – он опустил руки, сказал «ва!» – и волны умчали его из глаз моих.
– Кушанье поставили, – говорит Антон все тем же голосом, который так всем известен. 3 часа. После обеда кофий на столе, Лиза или Анета разливают. И все уходят. Я иду в детскую, мое теплое гнездышко, читаю… до свеч. 6 часов. Дуняшка хлопочет уже о самоваре. Бабушка давно кряхтит опять в гостиной. Дверь заперта в спальню до 7 часов – хоть кряхти, хоть не кряхти. Общий чай – звонок. После чая дети танцуют, или музыка, старики в сборе, бальные дети танцуют или певчие…»
Но независимо от семейных осложнений и их развязки на протяжении целых десяти лет это московский дом Тургенева, куда возвращается он из всех петербургских и заграничных поездок. Каждое произведение 40-х – начала 50-х годов так или иначе связано с домом на Остоженке. Это «Андрей Колосов», «Переписка», поэма «Андрей», многие стихотворения, вдохновленные горьким и недолгим «премухинским романом», как назовет сам Тургенев свое чувство к сестре Михаила Бакунина – Татьяне: «Долгие, белые тучи плывут», «Осенний вечер… Небо ясно», «Заметила ли ты», «Гроза промчалась», «Когда с тобой расстался я».
Тургенев привязался к остоженскому дому. У него своя любимая комната на антресолях, низкая, очень теплая, с окнами в запущенный сад, от которого сохранился до наших дней вековой вяз. А после смерти матери осенью 1850 года здесь все словно оживает новой жизнью. Это время первых и успешных драматургических опытов Тургенева. Его почетный гость – «папаша Щепкин», которому была посвящена первая редакция «Нахлебника». Эту пьесу великий актер особенно хотел сыграть, но смог осуществить свое желание только спустя 12 лет. Сыграет Щепкин и тургеневского «Холостяка».
С совершенно исключительным успехом проходит в январе 1861 года на сцене Малого театра «Провинциалка». «Вот уж точно я ожидал чего угодно, но только не такого успеха, – напишет Тургенев П.Виардо. – Вообразите себе, меня вызывали с такими неистовыми криками, что я наконец убежал совершенно растерянный… шум продолжался добрую четверть часа и прекратился только тогда, когда Щепкин вышел и объявил, что меня нет в театре».
Из Малого театра Тургенев бежал к себе на Остоженку. Там же он подарит другому замечательному актеру – Прову Садовскому – посвященную ему драматическую сцену «Разговор на большой дороге». В доме на Остоженке был написан в своем окончательном варианте и замечательный тургеневский рассказ «Певцы», возникновению которого предшествовал любопытный эпизод.
Среди московских живописцев Тургеневу был особенно близок Кирилл Горбунов, недавний крепостной, хлопотами Гоголя начавший учиться у Карла Брюллова и усилиями многих литераторов выкупленный на свободу. Горбунов тесно связан с Белинским, и Тургенев скажет о посмертном портрете «Неистового Виссариона» кисти Горбунова: «Чем больше смотришь, тем больше похож». Но у Горбунова был и еще один известный только близким друзьям талант – исполнителя народных песен. Не меньшей популярностью в этом виде мастерства пользовался и другой художник – Лев Жемчужников, брат литераторов, создавших вместе с А.К. Толстым образ Козьмы Пруткова.
Тургеневу приходит мысль устроить соревнование обоих певцов. Встреча состоялась. Одним из судей выступает сам писатель, а победителем становится Кирилл Горбунов, черты которого сообщены в рассказе Якову Турке. Тургенев передал в «Певцах» и свое впечатление от пения художника: «В нем была неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно беспечная грустная скорбь. Русская правдивая горячая душа звучала и дышала в нем и так хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. От звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль».