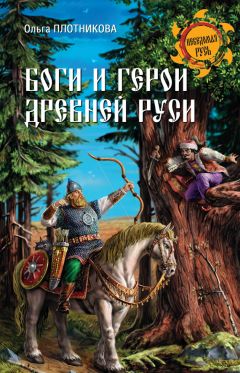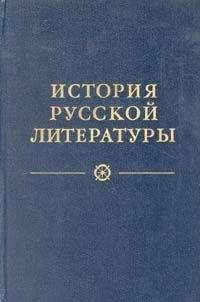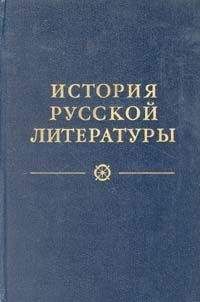Алексей Дельнов - Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна
Существеннейшее значение имело то, что было не на виду. Рост влияния евнухов, царедворцев из родни императриц, их ставленников в немалой степени был связан с устойчивым недоверием минской династии к ученому сословию шэньши. В результате общественный престиж этой интеллектуальной элиты Поднебесной падал, что особенно болезненно ощущалось потомственной служилой интеллигенцией – выходцами из семей, в которых из поколения в поколение культивировались любовь к знаниям и святость конфуцианских заветов служения государю и народному благу.
Честным чиновникам все труднее становилось терпеть необоснованные, попирающие конфуцианские добродетели решения, которые принимались неправым путем занявшими свои посты людьми. С их стороны все чаще стали звучать те же требования, что и в годы «петиционной кампании».
Доводы о необходимости перемен нашли сочувственное отношение даже у самого императора, и виднейший из оппозиционеров – Чжан Цзюйчжэн в конце 1570-х гг. был поставлен во главе правительства. За те годы, что оставались ему до конца жизни (он скончался в 1582 г.) канцлер успел сделать многое. Деньги, которые должны были пойти на строительство новых дворцов, были направлены на восстановление защитных и ирригационных сооружений, разрушенных при разливе Хуанхэ. В сфере аграрных отношений были проведены реформы, которые препятствовали концентрации земли в руках крупных собственников, увеличивали число налогоплательщиков. Была проведена перепись населения, по итогам которой были пересмотрены налоговые реестры.
При налогообложении большинства сельского населения стал применяться принцип «единого кнута» – как его назвали в народе. В соответствии с ним многообразные налоги и подати, которые прежде уплачивались частью продукцией (обычно зерном и тканями), частью деньгами, были сведены к единому налогу, размер которого исчислялся на основании стоимости серебра. Это было удобно при сборе налога, устраняло возможности для злонамеренного манипулирования, а также способствовало развитию товарно-денежных отношений. При проведении этой реформы всех не стригли под одну гребенку – где это было целесообразно, порядок выплат был оставлен прежний.
Театр марионеток
Поскольку крестьяне выплачивали налог преимущественно медными деньгами, а исчислялся он на основании стоимости серебра на рынке, происходили некоторые колебания его величины. Здесь интересно отметить один момент. Когда была открыта вновь внешняя торговля, Поднебесная, не очень нуждавшаяся в чужих товарах (разве что как в экзотических диковинках), в обмен на предметы своего традиционного экспорта (шелк, чай, фарфор, предметы декоративно-прикладного искусства и т. д.) получала преимущественно серебро, добываемое испанцами в их южноамериканских колониях. Но к рубежу XVI–XVII вв. наиболее богатые перуанские рудники были уже выработаны, соответственно приток металла в Китай замедлился, его рыночная стоимость возросла – поэтому крестьянам приходилось больше платить медной монетой. Таков был первый опыт вхождения Поднебесной в мировую экономическую систему.
Канцлер ввел систему регулярных проверок деятельности чиновников на местах. По его настойчивым просьбам, император стал чаще давать аудиенции сановникам и лично стал участвовать в делах управления. Отчасти благодаря этому удалось принять меры, усилившие армию, в первую очередь охрану границ, введена была более совершенная система подготовки командного состава. И созданы такие запасы зерна в казенных амбарах, что недостатка не было на протяжении многих лет.
После смерти Чжан Цзюйчжэна влиятельные недруги обвинили его в государственной измене, и были казнены все члены его семьи.
Но сторонники ошельмованного канцлера, хоть и были потеснены придворными кликами и их ставленниками, обрели некоторое «чувство локтя» и не думали сдаваться. Особенно громкие протесты раздались, когда дворцовым евнухам поручили, в обход официального цензорского ведомства, проинспектировать ход сбора налогов с торговли, частных предприятий, ремесленных мастерских, приисков, солеварен. Эти гаремные ревизоры сплошь и рядом не находили ничего лучшего, как брать себе в помощники местных «братков» – бандитов и темных дельцов. При такой поддержке они вмешивались в процесс взимания денег и третировали неугодных им чиновников.
Неприятным моментом для многих шэньши оказалось то, что академики из Ханлинь оказались не на их стороне: они слишком глубоко были втянуты в правительственную деятельность, многие из них входили в придворную «академическую палату». Поэтому протестующие чиновники образовали движение Дунлинь, а в 1603 г. в Уси (в провинции Цзянсу, на Великом канале) на базе местного училища возникла «Академия Дунлинь».
В 1604 г. дунлиньцы не побоялись оказать прямое давление на императора. К тому времени он опять совершенно отстранился от дел (поговаривали, что единственной его заботой стало приумножение личного богатства), а без его утверждения не могли состояться назначения на многие важнейшие должности. Сложилась ситуация, когда в стране ощущалась хроническая нехватка мировых судей (судейские были, разумеется, назначаемыми чиновниками, а не выборными представителями народа, вершащими от его имени правосудие). Это грозило параличом правовой системы, недолго было до установления примитивного «права сильного». Протестные мероприятия проводились в духе своего времени: чиновники-дунлиньцы собирались большими группами у императорского дворца, становились на колени и начинали громко кричать, чтобы привлечь внимание государя. На наш взгляд такая картина выглядит несколько забавно, но ее персонажи рисковали жизнью: любой из них мог получить из дворцового ведомства посылочку – шелковый шнурок, что недвусмысленно означало повеление покончить с собой.
«Китайские церемонии» – приветственные поклоны
Базовые же программные требования дунлиньцев были те же, что у прежних реформаторов: установить гармоничные, в духе, завещанном Учителем Кун-цзы, отношения между государством и обществом, для чего необходимо выдвигать на должности честных и знающих чиновников, ослабить налоговый гнет и уберечь мелких владельцев от захвата их земель.
После того, как португальцы основательно обустроились в Макао, в 1578 г. им разрешено было завести свою факторию и близ Кантона. Там же была устроена таможня. Отношение к чужеземцам было по-прежнему настороженным: проживать они могли только в указанном им районе, были установлены строгие правила закупки товаров – в случае нарушения они подлежали конфискации.
К прежним основаниям для опасений прибавилось новое: в 1570 г. на острове Лусон в Филиппинском архипелаге, близ Манилы, высадились испанцы. Но там уже успели обосноваться подданные китайского императора, и стали происходить конфликты. Испанский король Филипп II (чей мрачный портрет прекрасно описал Шарль де Костер в своей «Легенде о Тиле Уленшпигеле») замышлял даже отправить большую военную экспедицию для завоевания Китая – но потом отказался от такого намерения (возможно, благоразумно рассудив, что Поднебесная, – как бы мало он о ней не знал, – это совсем не то же самое, что царства ацтеков или инков).
Все же в 1603 г. на Филиппинах разгорелась война. Испанцы к тому времени захватили большую часть архипелага, значительная часть местного населения приняла христианство – и белые пришельцы, совместно с отрядами островитян, изгнали китайцев, которые потеряли убитыми около 20 тысяч человек. Что ж, еще одно знаменательное событие – первое столкновение с европейскими колонизаторами, хоть и на чужой территории. Впрочем, на Филиппинах по-прежнему проживало много выходцев из Поднебесной, и вскоре они прибрали там к рукам всю торговлю со странами Азии.
Но один европеец пришелся тогда в Поднебесной явно ко двору. Это был миссионер иезуит итальянец Маттео Риччи (1552–1610). Человек тучный, но энергичный, он построил близ Кантона первую христианскую церковь на китайской земле и повел активную (и умелую – характерная черта иезуитов) проповедь. В 1602 г. он перебрался в Пекин, был благосклонно принят императором и оставался в китайской столице до конца своих дней (всего он прожил в Поднебесной более тридцати лет). Своей общительностью Риччи приобрел немало ученых друзей, которые помогли ему перевести на китайский язык несколько христианских книг (однако местная манера общения, с ее «китайскими церемониями», ему не нравилась – он назвал ее «пустыней благопристойности»). Миссионер обзавелся своей паствой – среди принявших христианство было и несколько друзей-переводчиков (по некоторым сведениям, к середине XVII в. в Поднебесной было уже около 150 тысяч христиан). Но итальянец проповедовал не только Слово Божье. Китайцы с огромным интересом отнеслись к его рассказам о европейской культуре и европейской науке – Риччи, человек высокообразованный, мог поведать им многое. Он стал придворным советником по части астрономии и математики, переводил на китайский язык труды Эвклида и других европейских ученых по гидравлике и математике, вычертил карту мира по европейскому образцу.