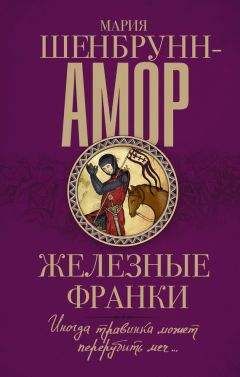Феликс Лурье - Полицейские и провокаторы
«С горя этот ретивый начальник охраны,— писал Меньщиков,— арестовал приехавшего в Петербург Азефа как „нелегального" (он жил под фамилией Черкасов), хотя Герасимов хорошо знал, кого берет; даже филер Тутушкин, наблюдавший за „Раскиным" (Азефом), был хорошо осведомлен о том, что следит за „подметкой" (агентом). Азеф пробыл под арестом три дня, (...) дал обязательство „работать" начистоту и был отпущен на новые шпионские „подвиги"» [565].
Ни Азеф, ни любой другой провокатор никогда не служили интересам своей Родины или хотя бы правительства, в лучшем случае он более-менее добросовестно служил интересам своего очередного хозяина. Одни провокаторы были рабски преданы своим хозяевам, другие соблюдали свои интересы. Азефа следует отнести к последним. Он удачно обманывал хозяев, еще удачнее обманывал «товарищей» по партии.
«Азеф был величайший лжец,— писал В. Л. Бурцев, хорошо знавший провокатора.— Он лгал всем, одновременно направо и налево. Его деятельность была такой, что он не мог и шагу сделать без того/ чтобы не лгать. Лгал -он не случайно, а по определенному плану, раз навсегда им выработанному, и ни на один момент он не имел возможности быть правдивым» [566].
Азеф лгал и Герасимову, хотя они по взаимному признанию считали друг друга друзьями. Долгими часами начальник столичной охранки и его секретный агент просиживали за самоваром в конспиративной квартире по Большой Итальянской (ул. Ракова), 15, обсуждали политическую обстановку в империи, строили планы. «По словам самого Азефа,— вспоминал в 1917 году В. Л. Бурцев рассказ провокатора,— у него не было никогда разговора с Герасимовым: «Давайте убьем того или другого, или хочу убить такого-то, а такого-то нельзя». Они разыгрывали роли в молчанку. Один говорил о себе, как об осведомителе, который не принимает участия, а другой его не допрашивал, не проверял... Но, по словам Азефа, он не мог допустить, чтобы Герасимов не догадывался и не знал о его роли, как участника террористических актов. Он мне привел целый ряд примеров» [567]. У них никогда не возникали размолвки, они превосходно понимали друг друга, их соединяло родство душ. Азеф чувствовал, может быть впервые, заботу и бережное отношение со стороны полицейского хозяина, отсутствие лишних вопросов. Они даже внешне походили друг на друга. Не сговариваясь, агент и его руководитель отбросили в сторону все, касавшееся морали.
Вся жизнь Александра Васильевича Герасимова складывалась из сражения за карьеру. Он происходил из украинских казаков, пытался получить инженерное образование как раз в период жесткого действия циркуляра «о кухаркиных детях», ему постоянно напоминали о плебейском происхождении. Закончив с трудом Черниговское пехотное юнкерское училище, Герасимов служил в запасных батальонах, где собирали подобных ему бесперспективных офицеров, где продвижение по службе считалось необыкновенной редкостью. Доведенный до отчаяния монотонной службой на задворках армии, Герасимов решил перейти в Отдельный корпус жандармов. И тут он встретился с новыми трудностями — в жандармские офицеры разрешалось поступать преимущественно лицам дворянского происхождения. но деятельному, напористому и тщеславному офицеру удалось преодолеть сопротивление голубых генералов, а затем и сильно потеснить их. Именно Азеф помог ему в этом.
Начальник столичной охранки очень быстро понял, что для него значит перевербованный секретный агент. Азеф стал его козырным тузом, его удачей, замелькали чины, ордена, потекли деньги. Разумеется, он сразу же обрубил все прежние контакты провокатора и завладел им единолично[568]. Благодаря Азефу Герасимов занял в империи политического сыска самое высокое положение. Ушла в прошлое необходимость делать доклады о своих действиях начальнику Особого отдела Департамента полиции или вице-директору по политической части и даже директору. У него не стало промежуточных инстанций, каждая из которых присваивала кусочки его заслуг. Он находился в прямых сношениях с министром внутренних дел Столыпиным или, в крайнем случае, с товарищем министра.
В самых высоких правительственных кругах и дворцовых гостиных сложилось твердое мнение, что Герасимов знает обо всех злоумышлениях террористов, что он предотвращает только те покушения, которые желает предотвратить, что он в состоянии с помощью эсеров расправиться с любым лицом, какое бы высокое положение оно ни занимало. Его боялись все, включая министра внутренних дел. Поговаривали даже, что Столыпин в поездках держал Герасимова подле себя специально. Он надеялся, что начальник охранки не допустит покушения на министра в своем присутствии[569]. Все Охранные отделения империи фактически подчинялись Герасимову, их начальники обсуждали с ним планы действий и сообщали ему, а не Департаменту полиции о результатах проделанных операций. Он сосредоточил в своих руках всю центральную внутреннюю агентуру. В значительной степени Петербургское охранное отделение подменило собой Особый отдел Департамента полиции, да и сам Департамент.
Герасимову было выгодно не раскрывать всех покушений, не сажать всех боевиков,— пусть они бросают бомбы где угодно, но не в Петербургской губернии, включая столицу, за спокойствие в которой нес ответственность он — Александр Васильевич Герасимов. Ему требовалось доказывать свою необходимость, и он доказывал. Карьера, карьера и карьера. Практическая сметка, напористость и смелость привели Герасимова на Олимп политического сыска. Как же ему не ценить Азефа, своего Пегаса? Это же на нем он взлетел на Олимп. Они действовали дружно и в сговоре, взаимно уступая друг другу, разыгрывали рука об руку свои роли, каждый для своего блага. Пегас заблаговременно доносил седоку, что замышляется убийство, руководил всеми действиями боевиков и докладывал о каждом их шаге. Герасимов усиливал охрану и в нужный момент выпускал «брандеров», особенно неумелых филеров. Название это происходит из военно-морской терминологии, брандер — небольшое судно с горючим материалом, употреблявшееся для поджигания неприятельских кораблей. «Брандеры» обычно так вели наблюдение, что не заметить их мог только слепой. Не зная того, они .непременно спугивали наблюдаемого.
«Для этой цели,— писал Герасимов,— у нас имелись особые специалисты, настоящие михрютки: ходит за кем-нибудь — прямо, можно сказать, носом в зад ему упирается. Уважающий себя филер никогда на такую работу не пойдет, да и нельзя его послать: и испортится, и себя кому не надо покажет» [570]. Боевики, заметив за собой слежку, прекращали подготовку покушения, через некоторое время возобновляли действия и опять натыкались на «брандеров». Сдавали нервы, рассыпалась группа, боевики ни с чем покидали Россию.
Начальник Петербургского охранного отделения более двух лет теснейшим образом сотрудничал с Азефом, но так и не понял своего главного секретного агента. «Меня всегда удивляло,— писал Герасимов,— как Ън, с его взглядами, не только попал в ряды революционеров, но и выдвинулся в их среде на одно из самых руководящих мест. Азеф отделывался от ответа незначительными фразами, вроде того, что „так случилось". Я понял, что он не хочет говорить на эту тему, и не настаивал. Загадка так и осталась для меня неразрешимой»[571]. Не один Герасимов признавался, что не разобрался в Азефе. Бывшая народоволка, осужденная по «процессу 17-ти», впоследствии член Боевой организации эсеров П. С. Ивановская, хорошо знавшая Азефа, писала о нем:
«Многие считали этого ловкого предателя необычайным честолюбцем, адским самолюбивым чудовищем, с душой, всеми дьяволами наполненной, хотевшим совместить в своих руках всю власть, все могущество, быть наибольшим и тут и там, никого не щадя, никого не любя. Быть может, историки, отодвинутые дальше от современности, правильнее понимают мотивы каждого деятеля, каждого политического работника, но нам, вместе работавшим с Азефом, кажется не без основания, что самым сильным дьяволом в его душе была подлая его трусость, ну и... корысть. Первая, конечно, играла крупнейшую, преимущественную роль,— ведь ни одна страсть не доводит до той степени падения, как трусость: „начнет, как бог, а кончит, как свинья“, сказал наш поэт об одном из персонажей своего произведения» [572].
Приведу описание внешности провокатора, принадлежащее Г. А. Лопатину, и его впечатление от их первой встречи:
«Увидев его на большом собрании, я спросил у соседа: «Это еще что за папуас?» — «Какой?» — «Да вон тот мулат с толстыми, чувственными губами».— «Этот... (склонившись к моему уху) Это Иван Николаевич!» — «Как? Это он? И вы отваживаетесь оставаться наедине с ним в пустынных и темных местах?! — говорю я полушутя.— Но ведь у него глаза и взгляд профессионального убийцы, человека, скрывающего какую-то мрачную тайну...» Затем, встречаясь с ним ежедневно в течение 10 дней и в продолжение целого дня, я ни разу не обменялся с ним ни одним словом, ни одним рукопожатием. А заметьте, всякий вам скажет, что я общительный человек, и я видел его в кругу наших общих друзей, а его почитателей. Не скрою, что я уже слышал о нем кое-что худое, но меня уверяли, что это злостные сплетни его партийных врагов, а дошедшие до меня факты не оправдали еще тогда в моих глазах зловещих выводов»[573] .