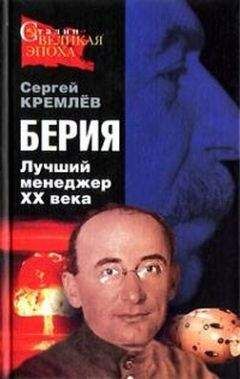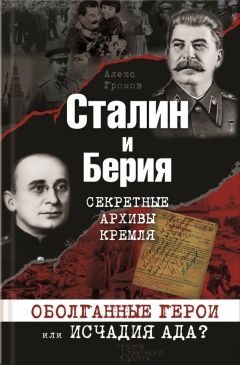Александр Говоров - Византийская тьма
— Ой! — всполошилась она. — Генерал, ты пришел?
В передней были разложены по кучкам какие-то детские платьица, игрушки, мужские сандалии с золочеными носками, все мало ношенное и пригодное для сбыта.
— Сула! — строго сказал Денис.
— Чего изволишь, мой повелитель? — заюлила она, чувствуя предстоящий разнос.
— Это ты скупала награбленное?
— Да, покупала… Но откуда оно взялось, не знаю…
— Как тебе не стыдно? Римлянка, а покупаешь отнятое при грабеже и погроме.
— Я не римлянка.
— А кто же ты?
— Я беглая рабыня. Вот, призналась тебе. А ты можешь отвести меня к эпарху, я не буду сопротивляться. Ты получишь премию за поимку беглого раба, а я свою мзду от Бога за то, что, дура, полюбила тебя.
«Да, действительно, — думалось Денису. — Рабы, они не римляне, хотя язык у них общий, греческий. Да и мораль у них другая. Но все-таки грабительским делам я потворствовать не намерен».
— Есть ли у тебя какой-нибудь знакомый монастырь, где имеется детский приют? Пристанище сирот?
— Да, а зачем? Монастырь Пантепоптон, например.
— Все тот же пресловутый Пантепоптон! Чего там только, оказывается, нет!
— Да и я сама рассчитываю к концу жизни найти там упокоение души.
— Вот и хорошо. Пойди сейчас же и отдай все это в приют.
— Ты с ума сошел! — завопила она. — Ведь это же большие деньги!
— Деньги я тебе отдам.
— Ах, генерал, ты, видимо, хочешь заранее времени попасть во святые!
— Рассуждать об этом не будем. А раз я для тебя генерал, то исполняй тотчас же. Или уходи отсюда совсем!
Он ушел в свою комнату, лег там не раздеваясь. Безумные сцены плыли перед его взором. Сула возилась в соседней комнате, стучала, брякала, уходила надолго, потом вернулась. Заглянула из-под занавески и, увидев, что Денис лежит с раскрытыми глазами, осторожно вошла.
— Вот тебе в подарок, гляди, хлыст. Сарацинский, из витой кожи. А то, я заметила, ты лошадь свою совсем не стегаешь, какой же всадник без кнута? И меня учи этим кнутом, когда я дурость свою начну проявлять. Скажи: а ну-ка, Сулка, задери свои юбки — и кнутиком, кнутиком пройдись без жалости, знаешь, как помогает?
Она расправила подол и стала возле его ложа на колени, даже молитвенно сложила руки. Делала она это не без труда — ведь у нее изувечено колено. Смотрела преданными глазами.
— Твоя эта Фотиния и не знает, что такое счастье. Оно ей на голову свалилось, как орех. Счастье надо выстрадать.
— Молчи! Я запрещаю тебе об этом говорить.
— Нет, нет, — все больше смелела она. — Я ничего лишнего не скажу. А послушай. Один раз, еще девушкой, продали меня в монастырь. Там инокиня одна была, мать Гликерия, старушка совсем, Болгаробойцу еще помнила. Я ей келью убирала, катихумену. Она мне стала второю матерью, тем более что родной-то я матушки и совсем не помню. Она мне говаривала, мать Гликерия-то, на чем ты, говорит, Сули, сломаешь свою головушку, так если влюбишься в кого!
— Ферруччи жалко, — сказал Денис. — За что его так?
— А какой вывод? — сказала безжалостно Сула. — По положению у принца ты и вправду генерал. Генерал, генерал, а где твое войско? Чего ж ты живешь в лакейской этой кувикуле? Тебе дворец нужен, особняк, отель, как говорят иностранцы, тысяча слуг с палками… (Денису вспомнился Никита на коне и его домочадцы с дубинами.) Тогда бы и Ферруччи твой был жив…
«Опять она права!» — вздохнул Денис, откинулся на подушки, пытаясь заснуть. Не тут-то было. Во-первых, в городе господствовал тревожный, почти набатный трезвон, возбуждал, по крайней мере, желание узнать новости. Денис представлял себе, как тысячи жителей бегут к форумам и перекресткам, чтобы хоть узнать, какому завтра молиться Богу.
Во-вторых, в полусвете лампадки все явственнее слышался чей-то не то детский, не то женский шепот: «Сули, Сули, вставай, ты же сказала разбудить…»
Денис поднял сандалию и швырнул в занавесь на двери. Сула там вскочила и после кратких сборов исчезла по своим маркитантским делам.
А он все лежал, охваченный грустью и чувством бессилия что-нибудь изменить. Жизнь течет своим чередом, на смену утратам поднимается новая поросль.
По стране далекой детства
Я болею ностальгией,
Я времен тогдашних книжки
На дом в Ленинке беру.
Вспоминаю, вспоминаю,
Бабушкин альбом листаю,
От хандры ли, от одышки
Засыпаю поутру…
И ко мне тогда былые
Подступают полулица,
Четвертьобразы, осколки
Душ, ушедших навсегда.
Как болезненны, как долги
Те мелькающие спицы
От волшебной колесницы,
Укатившейся в года.
Все пожухло, все обвисло,
Все рассыпалось без смысла,
Все как ветхая одежда,
Как седая голова…
Ой, что было б, что бы стало,
Если бы не прорастала,
Словно новая надежда,
Изумрудная трава!
Когда в кувикулах рассвело, колокольный звон снаружи сделался невыносимым. Денис оделся, вышел на галерею. Можно было спуститься в город или идти на крышу Юстинианы, самого высокого из дворцов, про который в шутку говорили: придет час напасти, отсюда и Китай увидишь…
Дворцовые зеваки рассказывали, что ночью прибыл гонец от принца, тот самый Андроник Ангел, которого посылали того же принца усмирять. Высокородный перебежчик вручил царице знаменитую грамоту, начинавшуюся евангельскими словами: «Вот посылаю ангела моего…» Принц любил эффекты, и эффект здесь был достигнут самый полный. Исстрадавшаяся царица-вдова со своим красавчиком протосевастом бежали не просто во Влахерны, где у них было имение. Они бежали во Влахернский монастырь и выразили там желание постричься, навсегда покинуть соблазн мира земного. Настоятель не решился на это, боясь гнева принца-победителя.
Гвардейцы-щитоносцы из варяжской тагмы отобрали у них малолетнего императора Алексея II с его женою-француженкой и отдали на попечение прибывшего в Большой Дворец доверенного лица принца, которым оказался не кто иной, как патрикий Агиохристофорит.
Новый указ из-за пролива требовал, чтобы протосеваст явился с повинною.
— Не дам! — рыдала василисса, успевшая раньше времени надеть монашеские одежды. Ее оторвали, увели.
Глава шестая
ВОРОН И ВОРОНЕНОК
1
Она опустилась на порог, встала на колени, ладонями гладила притолоку двери.
— Богородица Влахернская, вот я и дома!
Следовавшие за нею адъютанты ее мужа хотели помочь ей встать, но она их отстранила.
— Я дома, дома… Понимаете, я дома!
Из глубин обширного дома, построенного в лучшие времена заботливым Палимоном по прозвищу Хирург, вместе с золотым вечерним светом, который попадал в него через потолочные отверстия, исходили волны благополучия.
Вот из-за поворота, где двери в моленную, слышатся настороженные шаги. Кто-то выглядывает, но это не властная тетушка Манефа, это ее альтер эго, раб Иконом, он же домоправитель, он же мальчик для битья.
— Госпожа! — вскрикивает старик, протягивает трясущиеся руки, валится рядом с нею на колени. — О, наша Теотоки!
Резвый топот каблучков свидетельствует, что сверху торопится горничная Хриса. А вот шлепанье подошв, это, конечно, немой гном Фиалка. В руке его пергаментный свиток, приезд Теотоки застал его, конечно, в библиотеке.
— Госпожа наша вернулась, госпожа!
Вот и сама Манефа Ангелисса, шествует твердо, как античный проконсул, за нею свита приживалок и благодетельствуемых сирот. Ни морщинка не дрогнет в ее лице, хотя сама она боится, что вот-вот упадет от переживаний.
— Его мне покажите, его! — требует она, крестит и благословляет поднявшуюся племянницу, а заодно и адъютантов ее мужа.
Его вынимают из генеральской спокойной четырехколесной повозки и по эстафете передают на руках у кормилицы вверх по парадной лестнице в дом. Кормилица пышет здоровьем, выступает величаво, можно подумать, что все адъютанты и вестовые подчинены непосредственно ей, хотя у нее только одна помощница — младшая нянька.
Его кормилица подносит благоговейно, словно святые дары, и, откинув белоснежные пелены, показывает Манефе, та сразу же отмечает, что бровки у него, как у матери, Теотоки, чуть ли не срослись над носиком, но уж нахмурены совершенно по-генеральски.
— Дай, дай мне его, — требует она у кормилицы. Та оглядывается на мамашу, Теотоки согласно кивает головой. Тогда его в пеленах передают на руки двоюродной бабушке. Присутствующие няньки, адъютанты и приживалки почему-то боятся, что он упадет, и состоят в готовности номер один, хотя чем они помогут?
— Сколько я их, доместиков этих, вынянчила, — успокаивает Манефа и, внимательно вглядываясь в личико младенца, удовлетворенно смеется: — Врана! Конечно же, Врана! Вороненочек мой!