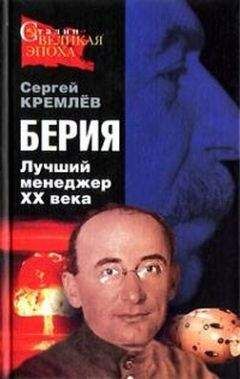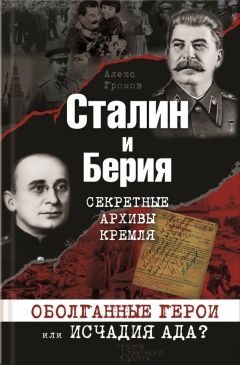Александр Говоров - Византийская тьма
Сула влетела в кувикулу сияющая, словно на праздник. Подавая Денису умыться, смотрела на него немножечко боком, виновато.
— Ну ты на меня не сердись, генерал!
— Я не генерал, — по-прежнему сухо ответил Денис.
— Будешь генералом, будешь! — убежденно сказала маркитантка. — Ты и министром будешь. Тебе когда-нибудь приходилось на себя в хорошее зеркало смотреть?
— Не мели чепуху, — уже снисходительнее сказал Денис, возвращая полотенце.
— Правда, правда! Ты посмотрел бы на себя. Таких мужчин не знает вся Восточная Римская империя. Уж поверь мне, в мужчинах Сула толк разбирает… Ах! — споткнулась она, сообразив, что говорит лишнее, и даже рот закрыла ладонью.
Но через минуту она опять смеялась и тараторила. Узнав, что Денис не хочет идти к Пантократору смотреть выставленных кесарей, она сказала: «Ну и правильно. Чего их, мертвяков, смотреть, сна лишишься…» Но добавила к своему рассказу:
— Там народ и убийцу поймал, отравителя. Добрая такая бабушка в чепчике.
— Птера! — вздрогнул Денис.
— Не знаю. Но люди, вероятно, знали. Содрали с нее одежонку и капот — а это мужик! Только евнух.
Она перевела дух и закончила:
— И что ж ты думаешь? Явился патрикий Агиохристофорит, тот самый, у которого мы с тобою вчера обедали, со своими молодчиками, Птеру эту забрал и увел с собою… Говорит, государь сам с этим делом разберется!
Она в страшном возбуждении кружилась вокруг стоящего в недоумении Дениса.
— Все, все, все… Я сказала, я сказала, я сказала, больше ни слова. Короче, я убегаю, мы там с маркитантами условились, народ идет латинян бить.
— Как бить?
— Так — крушить, громить.
— Каких латинян?
— Которые не нашей веры. Итальянцев всяких, твоего преподобного Ферруччи, например.
— Сула, ты с ума сошла! При чем здесь Ферруччи?
— Не знаю, не знаю. Не я же все-таки буду бить. Я только буду покупать, что награбят.
— Сула! — изо всей силы закричал Денис, но ее уже не было в помине.
Встревоженный Денис спустился на задний двор к людским конюшням. Рядом со своей Альмой и маркитанткиным осликом он обнаружил боевого коня Ферруччи.
Дежурный конюх объяснил, что ночью приезжал его светлейшества оруженосец и поставил коня в их стойло, но беспокоить их светлейшество не стал, ушел в город, сказав, что придет днем.
Не зная, на что решиться, Денис принялся чистить свою Альму, делая это, конечно, неумело. Конюший одолжил ему и губку и скребок, потом забрал все это и моментально сделал все сам. Лошадка с удовольствием отдавалась уходу хозяина, фыркала и трепетала холкой, сама подавала нужное копыто, теплой губой касалась хозяйской руки. Словно ребенок, когда его купает мать!
Все-таки как много утратило человечество к началу двадцать первого века!
Конюх взялся почистить и Ферруччиева коня, Денис дал ему серебряный денарий, старик поклонился:
— А все-таки, прости, ты не из прирожденных господ, твое всесветлейшество.
— Что же, разве господа не чистят своих лошадей?
— Нет, нет, наоборот! У рыцарей даже есть правило: своего боевого коня он всегда чистит только собственной рукой, хотя у него толпа слуг. И все-таки, когда они чистят, видно, что для них это удовольствие, а для тебя — труд.
Денис оседлал Альму и выехал за ворота дворца, сам еще не зная, куда ехать. Достаточно хорошо изучив нравы, он правильно рассудил, что при византийском культе господ лучше передвигаться верхом. Всегда будешь на голову выше любой толпы.
А народ все бежал к паперти Пантократора, цокали языком, ахали, закатывали сливообразные глаза. Денису все же было жаль Маруху, несмотря на ее прежнее коварство. Он представлял себе, какая она лежит там несчастная, которой судьба дала уникальное рождение и обделила главным — элементарной привлекательностью. Представил и ее Райнера, зубастого крокодила, — бр-р!
Между тем народный поток заметно менял свое направление. Сердобольные бабки и любопытствующие старички уже не бежали, несся охлос — творцы погромов, захватив зубила и крюки, бежали совсем в другом направлении. Фускарии и пивные опустели.
Хорошая публика, подобно Денису, выехала верхом. Стояли на углах и перекрестках, ни во что не вмешиваясь, но стараясь угадать, в какую сторону подует ветер событий.
Вот и знакомый — Никита Акоминат, нотарий при патриархе. На серенькой лошадке, скромным видом весьма напоминавшей своего ученого хозяина, она стояла на углу площади Тавра. Денис впервые увидел слуг (или крепостных) Акомината. Пешие, но вооруженные деревянными палками, они стояли у хозяйского седла. Тот давал им какие-то инструкции.
— Пахнет погромом, — начал Денис, поздоровавшись. — Вам не кажется, вселюбезнейший?
Никита, ответив на приветствие, не совсем вежливо молчал. Денис отметил перемены в его состоянии — добрый конь (раньше о нем слыхом не слыхали), толпа слуг, ковровый чепрак на коне. Что же? Старший братец его рукоположен в архиепископа Афинские, это важный духовный пост, и сам Никита пристроился при патриархе. И сосватан хорошо, хотя невеста еще куличики делает из песка.
— Кого же сегодня пришла очередь громить? — спросил Денис, не без своей всегдашней усмешки.
И эта усмешка, по-видимому, и вывела из себя всегда сдержанного Никиту.
— Хорошо вам, — понизил он голос. — Приехавшим невесть откуда, из тавроскифов или уж я не знаю… У вас там никто никого не грабит, а уж если сносят головы, то напрочь. Горе нашему Второму Риму, горе супервеликолепному, гипернесчастному, горе владыке вселенной!
«Ведь именно он пишет книгу, — думал Денис. — Ведь именно его книга самый правдивый источник по истории тех времен!»
— Когда изучаешь историю Византии, — сказал Денис, хотя собеседник даже не глядел в его сторону, занятый рассматриванием бегущих на погром. — Видишь потрясающее однообразие форм. Тысяча лет, а Византия все та же! Оцепенение какое-то…
— А вы историк? — повернулся к нему Никита.
— Да, я получил историческое образование.
— Тогда вам лучше, чем кому-нибудь, должно быть известно: чем мертвенней оцепенение общества, тем гибельнее потом взрыв.
«Диалектик!» — подумал Денис, но не успел ничего ответить. Со стороны Макремволия — Большого рынка катила густая толпа, разгоряченная вином. Толпа несла большой гвардейский круглый щит, на котором красовался, словно провозглашаемый императором, не кто иной, как Телхин — профессиональный клеветник! Телхин имел печать правды на морщинистом голодном лице.
— Бей-те ла-ти-нян! — скандировал он, а за ним и вся толпа. — Взять у них хлеб, отдать нашим детям!
— Като, като! — ревела толпа. — Долой! Долой всех инородцев!
— Боже! — воздел руки Никита и поспешил все-таки исчезнуть в сопровождении вооруженных палками слуг.
11
А Денис, тревога которого все время росла, пустил свою Альму именно туда, куда пронесли Телхина, словно императора толпы. По рассказам он знал, что там, по берегу Золотого рога, теснится генуэзская слободка, квартал ремесленников и мореходов. Византийские проходные дворы узкие, тесные, кривые, на каменистой их почве не растет ничего, кроме одуванчиков. Строения своеобразны — двух-трехэтажные галереи со столбами, многочисленные помойки, наружные лестницы. Обычно в этот предвечерний час все здесь кишит разнообразным людом, потому что большинство домов функционирует в качестве ночлежек. Но на сей раз жители со страху все попрятались, дым от горящих где-то домов обильно стелется по земле, и поэтому мира нет — не скрипит колодезь, не бегают дети.
«Чья-то вражеская рука, — с горечью думает Денис, — умело направляет все это. Среди византийских бездельников, рыночных игроков, завсегдатаев ипподрома, неряшливых мастеровых, недобросовестных торгашей всегда дисциплинированные и честные генуэзцы были кому-то как бельмо на глазу. И примечательно, сколько всюду праздных зевак и ни одного стражника, как будто у них срочное производственное совещание!»
— Синьор, синьор! — кто-то полудетским голосом взывал рядом с его лошадкой. — Всемилостивейший синьор, выслушайте, меня. — Это был Пьетро, младший из Колумбусов, ныне занимающий должность придворного скорохода.
Денис поднял юношу к себе в седло. Его била нервная дрожь, руки в зеленой ткани лягушачьего цвета так и тряслись, он говорил невнятное: «Бьянка… Мерзавцы… А Ферруччи нет и нет…» Денис никак не мог его успокоить.
У крайних домов генуэзской слободки выросла баррикада. Ветхие сундуки, убогие кровати, ящики, какие-то оглобли… В этой низкой части берега жила самая нищета. Все богатые иноземцы, кто бы они ни были — генуэзцы, пизанцы, флорентийцы, французы, они обитали в аристократических кварталах, у каждого дом был как крепость. А здесь за дороговизной земли лачуги строились прямо на мелководье, как свайные городки. И та же беднота, то же бездолье, что в других предместьях, только язык другой.