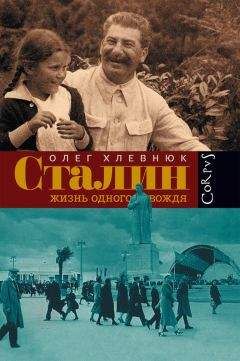Петр Кропоткин - Записки революционера
Я тщательно осмотрел камеру, в которой, быть может, мне предстояло провести несколько лет. По положению высокой трубы монетного двора я догадался, что моя камера находится в юго-западном углу крепости, в бастионе, выходящем на Неву. Здание, в котором я сидел, было, однако, не бастионом, а то, что в фортификации называют редюит, то есть внутреннее, пятиугольное, двухэтажное каменное здание, поднимающееся несколько над стенами бастиона и заключающее два этажа пушек. Моя комната была казематом, предназначавшимся для большой пушки, а окно - его амбразура. Солнечные лучи никогда не проникали туда. Даже летом они терялись в толще стены. Меблировку составляли: железная кровать, дубовый столик и такой же табурет. Пол был покрыт густо закрашенным войлоком, а стены оклеены желтыми обоями. Чтобы заглушить звуки, обои были, однако, наклеены не непосредственно на стену, а на полотно, под которым я открыл проволочную сетку, а за ней слой войлока. Только под ним мне удалось нащупать камень. У внутренней стены стоял умывальник. В толстой дубовой двери было прорезано запиравшееся квадратное отверстие, чтобы подавать через него пищу, и продолговатый глазок со стеклом, закрывавшийся с наружной стороны маленькою заслонкою. Через этот глазок часовой, стоявший в коридоре, мог видеть во всякое время, что делает заключенный. Действительно, он часто поднимал заслонку глазка, причем сапоги его жестоко скрипели всякий раз, как он по-медвежьи подкрадывался к моей двери. Я пробовал заговорить с ним, но тогда глаз, который я видел сквозь стеклышко, принимал выражение ужаса, и заслонка немедленно опускалась. И через минуту или две я опять слышал скрип, но никогда я не мог добиться ни слова от часового.
Кругом царила глубокая тишина. Я придвинул табуретку к окну и стал смотреть на клочок неба. Тщетно старался я уловить какой-нибудь звук с Невы или из города на противоположном берегу. Мертвая тишина начинала давить меня. Я пробовал петь, вначале тихо, потом все громче и громче: "Ужели мне во цвете лет любви сказать: прости навек", - пел я из "Руслана и Людмилы".
- Господин, не извольте петь! - раздался густой бас из-за двери.
- Я хочу петь и буду.
- Петь не позволяется, - басил солдат.
- А я все-таки буду.
Тогда явился смотритель, начавший убеждать меня, что я не должен петь, так как об этом он вынужден будет доложить коменданту крепости и так далее.
- Но у меня засорится горло и легкие отучатся действовать, если я не буду ни говорить, ни петь, - пробовал убеждать я.
- Уж вы лучше пойте вполголоса, про себя, - просил старый смотритель.
Но в просьбе не было надобности. Через несколько дней у меня пропала охота петь. Я пробовал было продолжать пение из принципа, но это ни к чему не привело.
"Самое главное, - думал я, - сохранить физическую силу. Я не хочу заболеть. Нужно себе представить, что предстоит провести несколько лет на севере, во время полярной экспедиции. Буду делать много движения, гимнастику, не надо поддаваться обстановке. Десять шагов из угла в угол уже не худо. Если пройти полтораста раз, вот уже верста". И я решил делать ежедневно по семи верст: две версты утром, две - перед обедом, две - после обеда и одну перед сном. "Если положить на стол десять папирос и передвигать одну, проходя мимо стола, - думал я, - то легко сосчитаю те триста раз, что мне надо пройти взад и вперед. Ходить надо скоро, но поворачивать в углу медленно, чтобы голова не закружилась, и всякий раз в другую сторону. Затем дважды в день буду проделывать гимнастику с моей тяжелой табуреткой". Я поднимал ее за ножку и держал в вытянутой руке, затем вертел ее колесом и скоро научился перебрасывать ее из одной руки в другую, через голову, за спиной и между ногами.
Через несколько часов после того, как меня привезли, явился смотритель и предложил кое-какие книги. Между ними были старые знакомые, как "Физиология обыденной жизни" Льюиса; но второй том, который мне особенно хотелось прочитать, снова куда-то затерялся. Я попросил, конечно, письменные принадлежности, но мне наотрез отказали. Перья и чернила никогда не выдаются в крепости иначе, как по специальному разрешению самого царя. Я, конечно, сильно страдал от вынужденной бездеятельности и начал сочинять в памяти ряд повестей для народного чтения, на сюжеты, заимствованные из русской истории, - нечто вроде "Mysteres du Peuple" Евгения Сю. Самую идею мне подали "Очерки из истории рабства", которые я прочел в одной из старых книжек "Дела". Я придумывал фабулу, описания, диалоги и пробовал запомнить все от начала до конца. Можно себе представить, как изнурила бы мозг подобная работа, если бы я ее продолжал больше, чем два или три месяца.
В крепости от нескольких поколений заключенных накопилась целая библиотека. Чернышевский, каракозовцы, нечаевцы - все оставили что-нибудь для следующих поколений заключенных. Было даже несколько книг, оставшихся от декабристов, и одна из них попалась мне, и я с чувством благоговения читал какое-то туманное мистически-философское сочинение, которое было в руках этих первых мучеников борьбы против самодержавия в нашем веке, отыскивая каких-нибудь следов - имен или разговоров - в старинной книге. Все книги были, между прочим, до того исчерчены ногтем, что трудно было до чего-нибудь добраться. Одно только имя раз попалось мне, совершенно ясно очерченное ногтем, буква за буквой: "Нечаев 1873". - Он, стало быть, еще недавно был жив, заключенный где-то в каком-то каземате, может быть, недалеко от нас.
Многим заключенным только в тюрьме и удается читать спокойно, без перерыва, серьезные книги. Попадая рано в круговорот кружковой жизни и политической агитации, большинству революционеров только и удается читать толстые книги в тюрьме. Иоган Мост как-то писал мне, что он только в немецкой тюрьме получил порядочное образование. Лионским анархистам только в Клерво удалось получить кое-какое образование. Вообще где же молодому рабочему учиться, если не в тюрьме! Но и большинству молодых студентов только в тюрьме удалось прочесть многое и познакомиться основательно с историей.
За Льюисом, конечно, последовала "История XVIII века" Шлоссера, книга, которую все без исключения попавшие в русскую тюрьму прочитывают по нескольку раз. Тюремная цензура охотно пропускала этот тяжеловесный труд немецкого историка, довольно либерального, и из нее наша молодежь знакомилась с Французской революцией за неимением лучших сочинений. Мне тоже позволили пополнить в свою очередь крепостную библиотеку, и я приобрел всю "Историю" Соловьева и пополнил то, чего не хватало из Костомарова, Сергеевича, Беляева. Все это я прочитал по нескольку раз в крепости и глубоко наслаждался, читая не только общие исследования, но даже такие специальные работы, как, например, "Одежды русских царей и цариц" и т. п., которые мне потом носили из библиотеки Черкасова.
Еще одну книгу хотелось бы мне помянуть добром за вынесенное из нее наслаждение. Это Стасюлевича "Хрестоматия средних веков". Если по новейшим или древнейшим периодам истории каждый писатель по-своему толкует события, то нигде произвол и даже полнейшее непонимание периода не доходят до такой степени, как в исследованиях по средним векам. Историки, выросшие на государственности, римском праве, в большинстве случаев совершенно не способны понять смысл средневековой жизни. Им важно ленное начало, отношение феодалов к королевской власти (которую они все, кроме Огюстэна Тьерри и даже включая его, преувеличивают), правовые, установленные грамотами или договорами отношения крестьян к землевладельцам, или же отношения церкви как государственного учреждения к королю, папе или своей пастве; но взаимные отношения крестьян и горожан между собою, не определенные никакими письменными документами (так же как отношения сельчан в сельском "обществе", в общине), совершенно ускользают от них. Выросши на школе римской государственности и римского права, большинство историков даже не подозревает этого обширного мира правовых отношений, построенных на неписаном обычном праве.
Вот почему я с таким удовольствием читал выборки из хроник, из которых составлена "Хрестоматия" Стасюлевича. Я не поручусь, что Стасюлевич тоже не упустил в этих выборках самого существенного, то есть намеков, попадающихся в этих хрониках, на взаимные обычные отношения людей. Но уже потому, что выборки так обширны, в них попадаются там и сям ценные намеки; затем хотя бы и придворная и монастырская жизнь, выступающая в этих хрониках, сама по себе в высшей степени интересна, иногда драматична и всегда дышит самою жизнью.
Больше всего я зачитывался, конечно, такими сочинениями, как "Вече и князь" Сергеевича, или такими исследованиями, как Беляева "Крестьяне на Руси", в которых выступала жизнь, масс в средние века русской жизни. С большим удовольствием читал я также "Жития святых", где иногда попадаются среди массы хлама такие бытовые картины, которых больше нигде не найдешь. Наши русские летописи - такая роскошь, что удивляешься, как мало их читают! Псковская летопись в особенности так живописна и такой драгоценный материал для понимания средневекового городского уклада, что ни в одной, кажется, литературе нет ничего подобного. Дело в том, что в Пскове средневековая жизнь удержалась в первобытных формах до сравнительно позднего периода, когда писание летописей уже достигло более высокой степени совершенства. А затем сама демократическая жизнь Пскова, без очень богатых купеческих семей, становящихся "тиранами" города, более выдвигает в истории народные массы, потому Псковская летопись - образец для жизни целой массы подобных городов в Западной Европе, не оставивших своих летописей.