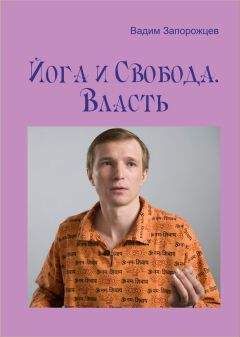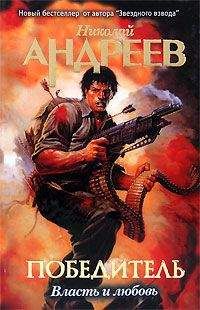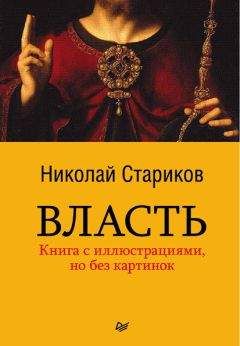Павел Милюков - Воспоминания (1859-1917) (Том 1)
Забастовочное движение уже в сентябре стало принимать "всеобщий" характер, втягивая в себя элементы, обычно далекие от политики. После объявления высших учебных заведений автономными (это была уступка правительства настояниям С. Н. Трубецкого) помещения их стали неприступными для полиции, и аудитории стали служить для ежедневных, отнюдь не студенческих только, митингов, на которых настойчиво повторялись и становились всеобщими радикальные лозунги дня. Старые уступки правительства при таком положении явно становились недостаточными. Булыгинская Дума перестала стоять в центре интереса, отодвинувшись куда-то в туман. Как далеко пойдет правительство в новых уступках, что можно сделать вопреки его воле, - все это оставалось неясным. Пределы возможностей расширялись до {306} бесконечности. Самое название "конституционно-демократической" партии уже являлось помехой: теперь требовалась "демократическая республика", как продукт "вооруженного восстания" и захвата власти "временным правительством" по рецепту третьего (большевистского) социалистического съезда. В свете этих настроений и событий задача партийного съезда чрезвычайно осложнялась. Среди большинства партии левые настроения должны были усилиться как раз тогда, когда и бюро съездов и сплотившаяся около него группа собирались выдержать на съезде линию июльского и сентябрьского съездов, не поддаваясь назад, вслед за сентябрьским меньшинством, но и не идя навстречу повышенным требованиям момента. Вопрос шел о сохранении или об изменении только что начавшего выясняться лица партии. Положение осложнялось тем, что, по мере этого выяснения, партия всё более дифференцировалась от своего "освобожденского" происхождения.
Учредительный съезд был назначен на 12-е октября. Но по мере приближения этой даты, положение становилось всё более тревожным. Забастовка железнодорожных узлов наложила последний штрих; прервав саму возможность передвижения, она остановила деятельность всех отраслей государственной и общественной жизни. Правительство совершенно растерялось. Портсмутский мир был только что заключен; но войска еще не вернулись с театра войны. "Герой" мира Витте вернулся в Петербург: на него были обращены все взоры, как на единственно возможного восстановителя внутреннего мира.
Остановка сообщений грозила и самому существованию съезда. Путь в Москву был отрезан почти для трех четвертей членов съезда. Поднимался вопрос, в какой степени собравшийся при таких условиях съезд может считаться законным. Но темп событий становился таким лихорадочным, что реагировать на них становилось политически необходимым и неотложным; а сделать это можно было только от имени уже образовавшейся партии. Так как для этого формального открытия всё было подготовлено, то бюро решило не считаться с этими препятствиями.
Мне было поручено сделать вступительное {307} обращение к съезду в смысле только что указанных решений. Мою задачу несколько облегчал факт отсутствия многих петербургских членов Союза Освобождения, которые внесли бы элемент непримиримости. Но это же и делало мою задачу особенно ответственной. То, что я назвал "лицом" партии, слишком очевидно совпадало с моим собственным политическим лицом; а я уже знал, как к нему относились в Петербурге (см. также ниже). Предопределяя, в своем вступительном слове, характер складывавшейся партии, я окончательно предрешал и мое собственное дальнейшее поведение. Я, конечно, предвидел, что предстоит бой и что мне, помимо состоявшихся партийных решений, придется внести в борьбу и мой личный элемент - за своей собственной ответственностью. Это был, своего рода, вступительный экзамен на "лидерство".
Единство взглядов и обязательность партийной дисциплины - таковы были два основные условия перехода от "Союза" к "партии". Но в действительности, съезжались два непримиренные течения; пределы разногласий приходилось установить достаточно широко, и не было ясно, насколько они еще увеличатся под влиянием прилива революционных настроений, с одной стороны, и решимости руководителей сохранить "лицо" партии, с другой. Я старался исходить из того, что у нас считалось общепризнанным. Это было, прежде всего, уже вошедшее в употребление название партии.
Партия "конституционная" не должна была быть "республиканской": это первое ограничение. Партия "демократическая" не должна была быть "социалистической" - это второе. За эти грани мы должны были сражаться. Направо от нас оставались промышленники ,и аграрии, уже проявлявшие тогда свои классовые стремления. Тут граница была ясна. Она была менее ясна налево, где были "не противники, а союзники". Я должен был здесь допустить максимум разногласий, возможных в пределах одной партии. К лозунгам демократической республики и обобществления средств производства, говорил я, "одни из нас не присоединяются, потому что считают их вообще неприемлемыми. Другие - потому, что считают их стоящими вне пределов практической политики". "Этого рода препятствия {308} - не неустранимы, если не смотреть на партию, как на соединение вечное". Но "до тех пор, пока возможно будет идти к общей цели вместе, несмотря на это различие мотивов, обе группы партии будут выступать как одно целое.
Всякая же попытка подчеркнуть только что указанные стремления и ввести их в программу будет иметь последствием немедленный раскол". Предвидя эту возможность (которая и осуществилась), я призывал членов съезда проявить "политическую дальновидность и благоразумие", указывая на то, что и так "наша программа - наиболее левая из всех, какие предъявляются аналогичными нам политическими группами западной Европы". Для России, говорил я, это есть "первая попытка претворить интеллигентские идеалы в осуществимые практические требования, взяв из литературных деклараций всё, что может быть введено в политическую программу". Я даже, с сожалением, конечно, предусматривал, что "этот характер программы может быть не оценен по достоинству в момент такого высокого напряжения общественных сил, какой мы сейчас переживаем; но он, без сомнения, будет оценен впоследствии". Это обращение к суду потомства делалось не без риска: суждение могло оказаться не столь одобрительным, как мы ожидали.
Всё же, бюро сделало всё, что могло. По современным воспоминаниям, "прения на съезде были бурные". Я лично не помню, чтобы они имели такой характер. Почти полное отсутствие освобожденцев на съезде понижало тон прений. Важные для них пункты социального законодательства были приняты в нашу программу, как сказано, очень близко к тексту мартовского освобожденческого съезда; они только были точнее формулированы и детальнее развиты. Неожиданная "буря" разыгралась только по поводу пререканий между мной и моей женой по поводу расширения избирательных прав на женщин. Тщетно я убеждал съезд, что программа и без того перегружена, что груз может пойти ко дну, а вопрос не имеет характера актуальности (я потом сам защищал этот тезис в Четвертой Думе). Несмотря на поддержку бюро, я остался в меньшинстве. Меньшинству было предоставлено лишь считать "необязательным" для себя, как этот тезис, так и "различие мнений" {309} об "одной или двух палатах". Вопросы гораздо более принципиальные, как республика или монархия, образование из "национализуемых" земель общего земельного фонда и его употребление и т. п. - были обойдены уди затушеваны в программных формулировках. Их решение предоставлялось будущему. С таким сравнительным успехом мы вышли из программных разногласий.
Гораздо существеннее для данного момента был вопрос тактический: всё тот же вопрос об отношении партии к выборам в (Булыгинскую) Думу и о плане деятельности членов партии в самой Думе. На меня был возложен доклад и по этой части работы съезда. Но здесь препятствия оказались непреодолимыми. Мой доклад был готов, когда развернулись события, создававшие каждый день совершенно новое положение. На первую очередь стал в эти дни вопрос об отношении партии к всеобщей забастовке. За три дня до появления манифеста 17 октября ходили лишь темные слухи, что на верхах готовится что-то важное. Съезду приходилось дважды отложить доклад о тактике - в ожидании разъяснений, а мне пришлось два раза его переделать. В ожидании пришлось ограничиться самыми общими фразами. Но вот, в последний день, уже к концу затянувшегося съезда, в зал вбежал запыхавшийся сотрудник дружественной газеты. Он потрясал смятым корректурным листком, на котором непросохшей типографской краской был напечатан текст манифеста 17 октября.
Этой беспримерной сенсации не ожидал никто из нас, - никто к ней не готовился. Само бюро впервые ознакомилось с содержанием манифеста при его прочтении на съезде. При нашем общем настроении этот текст производил смутное и неудовлетворительное впечатление.
В нем, с одной стороны, слышались слишком привычные выражения о "смутах и волнениях..., преисполнивших сердце царево тяжкой скорбью" и вызывающих, во имя "великого обета царского служения", "принятие мер к скорейшему прекращению опасной смуты". С другой стороны, этими "мерами" оказывались обещания, "для успешнейшего умиротворения", "даровать незыблемые основы действительной неприкосновенности личности" и "гражданской свободы". А {310} главное, мы услышали заветные слова: "никакой закон без одобрения Думы", "действительное участие в надзоре" за властями и даже - привлечение к выборам в Думу классов населения, "совсем лишенных избирательных прав" и, наконец, - правда, в перспективе, "дальнейшее развитие общего избирательного права вновь установленным (то есть через Думу?) законодательным порядком"! Что это такое? Новая хитрость и оттяжка, или, в самом деле, серьезные намерения? Верить или не верить?..