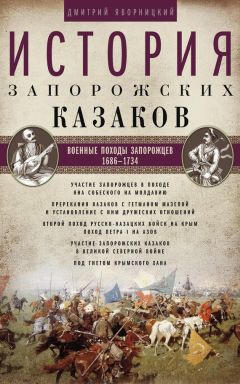Йоахим Радкау - Природа и власть. Всемирная история окружающей среды
В современном «экономическом» сельском хозяйстве традиционный пар, когда землю на год или несколько лет передавали «в пользование» пестрому ковру диких растений, снова оказался в почете. Этот метод позволил восстанавливать плодородие почвы не менее действенно, чем выращивание определенных видов кормовых растений. Даже Шверц в некоторых случаях признавал, что не все в отжившей «косности» было лишено смысла: «На планете, где все так несовершенно, терпимость к недостаткам иногда приносит пользу…» Уже имея перед глазами негативный опыт однобоких и схематичных аграрных реформ, он буквально вбивал в головы своих учеников: «Никакие премудрости, никакие наговоры, никакие гипотезы и системы не помогут, если они не согласуются со всем природным целым». Еще в 1872 году в популярном учебнике по сельскому хозяйству отмечалось, что круглогодичное стойловое содержание скота – это «что-то очень жестокое» по отношению к животным и в высочайшей степени противоестественное, и что в долгосрочной перспективе для здоровья животных было бы полезнее «разумное сочетание стойлового содержания и свободного выпаса» (см. примеч. 29).
Однако уже в конце XVIII века этот осторожный, взвешенный по отношению к природе подход вступил в частичную конкуренцию с другим разумным соображением. Уже у «философа-земледельца» Кляйнйогга экономия доходила до одержимости, изгонявшей из крестьянской жизни любое проявление уюта и спокойствия. В свидетельствах некоторых современников Кляйнйогг предстает скрягой, лопающимся от жадности и самомнения и отнимающим у своих домочадцев всякую радость праздников, досуга и щедрости (см. примеч. 30).
В XIX веке сельское хозяйство Западной и Центральной Европы в своей ненасытной жажде удобрений вышло за пределы возобновимых ресурсов: около 1840 года начался массовый импорт чилийского гуано, затем – масштабное внедрение калия и фосфатов. В истории немецкого сельского хозяйства начало «эпохи минеральных удобрений» датируется примерно 1880 годом (см. примеч. 31). В то время Германская империя достигла мирового первенства в добыче калия. Новые вещества также обладали уже известными изъянами, свойственными специализированным удобрениям. Сначала они приводили к успеху, но затем – к дефициту определенных питательных веществ, так что почва неизбежно начинала истощаться, если не вносить в нее для компенсации минеральные удобрения. Так, с начала XX века вносились прежде всего синтетические азотные удобрения, необходимость которых отрицал еще Либих в своей долгой борьбе против «азотчиков».
При всем этом оставались без внимания проблемы структуры почв. Зато появление парового двигателя усилило уже появившуюся тенденцию к более глубокой вспашке. Пионер плуга на паровой тяге Макс Айт стал вдохновителем немецкой сельскохозяйственной техники, хотя в «малогабаритных» европейских ландшафтах внедрить паровой плуг было труднее, чем в США или Египте – о тамошних приключениях парового плуга Айт умел рассказывать романтические истории в духе Карла Мая. Какие последствия для почвы будет иметь все более глубокая вспашка, понимали лишь отчасти (см. примеч. 32). В то же время под лозунгом «консолидации земель» (Flurbereinigung) и под давлением индустриальной техники, продолжалось укрупнение крестьянских общинных полей, раздробленных в эпоху многопольного хозяйства. Уже в конце XIX века любителей природы стала угнетать возрастающая монотонность аграрного ландшафта, исчезновение живых изгородей и мелких водоемов (см. примеч. 33). Ликвидация открытых пастбищ сделала ненужными изгороди и водопои.
В долгосрочной перспективе история аграрных реформ, как и многие другие эпизоды истории среды, усиливает подозрение, что решения экологических проблем порой более опасны, чем сами проблемы. Аграрные реформы с их одержимостью удобрением и введением полной частной собственности на землю были в какой-то мере ответом на экологическое несовершенство традиционного сельского хозяйства. В чем-то они действительно сделали аграрную экологию более стабильной, однако связанная с ними экономико-психологическая динамика привела со временем к дестабилизирующим побочным эффектам. Одним из ведущих факторов было полное раскрепощение личной корысти, но свой вклад вносили и амбиции государств. Под влиянием физиократов сельское хозяйство в Европе стало вопросом большой политики. Еще никогда созидательная сила природы не становилась исходным пунктом экономического учения так решительно, как у физиократов, но и государство никогда прежде не ощущало таких обязательств помогать этой силе. Тем более что Фридрих II Прусский (1712–1786) руководствовался мнением, что в его стране нет хорошей природы, которую следовало бы охранять, а есть лишь скудная, которую нужно улучшать.
Став предметом политики, сельское хозяйство так им и осталось и парадоксальным образом привлекало к себе тем больше внимания, чем меньше было его присутствие в экономике. Недовольство всеохватной индустриализацией в Германии и в других регионах шло на пользу аграриям и их призывам к поддержке сельского хозяйства. Однако именно учрежденная тогда система аграрного протекционизма со временем поставила крестьянское хозяйство в сильнейшую зависимость от внешнего управления и настолько отдалила его от природы, что даже современному «экологическому» земледелию очень трудно отказаться от государственной поддержки.
3. СТРАХИ ПЕРЕД НЕХВАТКОЙ ДЕРЕВА. КАМПАНИЯ ПО ВОССОЗДАНИЮ ЛЕСОВ И АПОЛОГЕТИКА ЛЕСА В ЭКОЛОГИИ
В Центральной и Западной Европе, а затем и в США, основным воплощением природы, которую для общего будущего нужно защищать от корыстных отраслевых интересов, стал лес. Роль государства здесь еще более заметна, чем в случае сельского хозяйства: лесная политика государств во многих регионах восходит к XVI веку. На смену хищническим рубкам должно прийти устойчивое лесное хозяйство, позволяющее достичь равновесия между изъятием и приростом древесины, – вот девиз XVIII и XIX веков. Если прежде доминировало управление рубками, осуществляемое через концессии и запреты, то теперь пришло время активной политики воссоздания лесов, при реализации которой нередко происходила смена пород на более прибыльные. Однако нельзя путать историю лесных установлений с историей реальных лесов: высокоствольный лес вырос вовсе не после их принятия, а уже давно «сформировался через тысячи переходов из лесов, в которых велись выборочные рубки» (см. примеч. 34).
Вмешательство государства чаще всего оправдывают острым кризисом в снабжении лесом, даже близкой катастрофой. По сей день историческое самосознание институционализированного лесоводства базируется на представлении, что когда-то именно его появление спасло леса от полного уничтожения. Однако в реальной жизни воссоздание лесов было скорее сменой ведущих пород в уже существующих лесах для получения больших объемов древесины. В некоторых германских странах площадь лесных угодий в то время из-за раздела альменды и вырубок крестьянских лесов даже сократилась. В общеевропейском и общемировом масштабе XIX век скорее кажется эпохой сведения леса, чем его создания. К обвинениям в дефиците дерева и разорении лесов, которые выдвигали государственные инстанции или привилегированные лесопользователи против остальных пользователей, нужно всегда подходить очень осторожно, потому что – как сообщает «Экономическая энциклопедия» Иоганна Крюница 1789 года – «если высшая полицейская и финансовая коллегия сочтет, что использование лесов в стране не соответствует нужной пропорции, что за год дерева потребляется больше, чем нарастает», то государство, согласно господствующей тогда доктрине, имеет право на вмешательство в частные угодья. Отрасли промышленности, традиционно обладавшие правами на лесопользование, использовали тревожные сигналы о дефиците леса для того, чтобы держать подальше от лесов новых пользователей. Угрожающее состояние лесов служило прекрасным аргументом для усиления порядка. Опубликованная в 1801 году в «Вестфальском Вестнике» жалоба на нехватку дерева оканчивалась общим наступлением на изнеженных «филантропов», которые не в состоянии смотреть, как наказывают вора и как он болтается на виселице (см. примеч. 35).
Не только государство было способно охранять лес, частным владельцам это часто удавалось лучше. В Падерборне крестьяне так усердно сажали деревья, что автор аграрных реформ Шверц считал это даже перебором. Когда вестфальские крестьяне после раздела марок получили леса в частную собственность, случалось, что они сами убивали «лесокрадов» без суда и следствия, как, например, в 1806 году в Ферсмольде, когда «людей закалывали, как свиней». Жалоба на разор лесов вовсе не обязательно служила воззванием к государству. В 1802 году Иоганн Якоб Трунк, профессор лесоводства во Фрайбурге, внесший большой вклад в академизацию учения о лесе, называл сотрудников государственных лесных служб «испорченной, мошеннической породой», главными нарушителями среди тех, кого им самим и надлежало преследовать. Если новые фёрстеры, настроенные на получение древесины, воспринимали рубки как «главный вид лесопользования», а традиционные крестьянские и прочие пользования, от выпаса до подсочки, пренебрежительно относили к «побочным», то это вовсе не шло на пользу экологии леса. Дело в том, что большинство «побочных пользований», резко пошедших тогда на убыль, имели в целом щадящий для леса характер, чего нельзя сказать о сплошных рубках и хвойных монокультурах (см. примеч. 36).