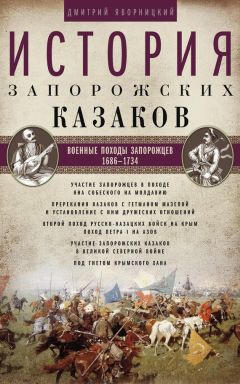Йоахим Радкау - Природа и власть. Всемирная история окружающей среды
Глазам современников индустриализация предстала в двух фазах: в первой она украшала окружавший их мир, а во второй – все сильнее уродовала его. Авторы путевых заметок, описывая первые индустриальные ландшафты, часто впадали в восторг: путешественник, помнивший местность еще до огораживаний (Markenteilung), восхищается тем, что на месте бывших пустырей теперь колышутся нивы, по берегам ручьев теснятся мельницы, повсюду пульсирует жизнь и трудятся усердные ремесленники. Георг Форстер, враг старого феодализма, «с неописуемым наслаждением» наблюдает за работой Аахенских суконных мануфактур (см. примеч. 17). Но с переходом к широкому использованию каменного угля картина меняется. Теперь над новыми индустриальными пейзажами высится лес чадящих фабричных труб, а вокруг разрастаются прокопченные до черноты рабочие районы, социальные и гигиенические условия в которых сулят неприятности. С каменным углем и развитием угольной химии острейшей проблемой воды и воздуха становятся промышленные выбросы. В «деревянный век» такого не было никогда.
Нужно все время помнить о том, как сильно изменилась ситуация: нуждающимся в защите общим достоянием теперь уже были не альменда или общинный лес, где надо было лишь согласовывать друг с другом интересы более или менее узкого круга пользователей, а воздух и проточные воды, круг пользователей которыми уже никакому учету не поддавался. Вся окружающая среда как целое теперь нуждалась в защите от всех заинтересованных в ней лиц. К несчастью, этот переворот в экологической проблематике пришелся на тот период всемирной истории, когда господствующей доктриной стал экономический либерализм с таким понятием общего блага, какое устанавливается на рынке благодаря прояснению интересов. Человечество до сих пор испытывает трудности из-за практических последствий коренного изменения экологической ситуации, и подобная инерция не удивительна, если вспомнить историю прошедших тысячелетий.
Поскольку в эпоху угля промышленность сначала концентрировалась в крупных агломерациях, индустриальная экологическая проблематика еще более, чем доиндустриальные проблемы леса и сельского хозяйства, заявила о себе в первую очередь на уровне коммун. Масштаб и серьезность проблем люди осознавали с самого начала, но, как правило, города и государственные инстанции по надзору за промышленностью реагировали на них только ad hoc-распоряжениями[182]. Может ли современный историк осуждать их за это – вопрос спорный. Сегодня становится понятным, что даже в начале XIX века индустриализация еще не вызывала в природе общих необратимых нарушений. Не один участок, где зарождалась английская индустриализация, превратился сегодня в идиллический природный уголок. В сравнении с асфальтовыми пустынями, порожденными моторизацией XX века, железные дороги еще более или менее гармонично вписывались в ландшафт, а занятые ими площади по отношению к мощности перевозок были относительно ничтожны. Структуру экологической истории индустриального периода задавали не только подъемы экономики, но и характерные для конкретных эпох пределы роста и разнообразные протесты общества. Не только фабрики были знаковым явлением эпохи, но и великая тоска по природе, и широкое гигиеническое движение, ставшее непосредственным результатом индустриализации. Эпохальную роль сыграл и национализм с его попыткой учредить государственные объединения с опорой на природу.
2. «ГДЕ НАВОЗ, ТАМ ХРИСТОС»: ОТ ПАРА И ЗАЛЕЖИ К «КУЛЬТУ НАВОЗА» И ПОЛИТИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Основные устремления аграрных учений XVIII и начала XIX веков сводились, как правило, к максимальному использованию пахотных земель, прежде всего – ликвидации пара и залежи за счет севооборота, посадок кормовых растений и стойлового содержания скота. Как минимум в теории, многие инновации были тщательно продуманной системой, все элементы которой были полностью подогнаны друг к другу. Но действительность зачастую оказывалась не столь совершенна. Не последнюю роль играл человеческий фактор. Аграрные реформаторы того времени не располагали новым источником энергии и требовали все большего вложения человеческих сил, в том числе женских. Старые общинные луга стали воплощением отжившей «косности» (Schlendrian). Как писал автор аграрных реформ Иоганн фон Шверц: «Я никогда и нигде не видел ничего, что больше питало бы леность, мешало земледелию, портило хозяина и было бы само по себе более невыгодным, чем обширные общинные луга и леса». Он считал их «хозяйством кочевников» и говорил, что они вызывают у него настоящую «тошноту» (см. примеч. 18). Причины столь страшного приговора не только в трудовой морали, но и в аграрной экологии: большие луговые пространства грозили потерей помета животных, в первую очередь его жидкой фракции. В любом случае в условиях пастбищного хозяйства невозможно было наилучшим образом собрать и целенаправленно использовать навоз, а именно этому и следовало теперь делать.
Во многих случаях аграрные инновации не вводились как резкие изменения на основе новых теорий, а осуществлялись наощупь, опытным путем. Авторы аграрных реформ обращались и к крестьянскому опыту. До XIX века у них не было собственной науки, то есть источника знаний, превосходившего крестьянские знания, и тем это было известно. В общем и целом реформаторы, как и крестьяне того времени, мыслили в категориях баланса между земледелием и скотоводством. Одного севооборота не хватало для восстановления плодородия. Почву нужно было унавоживать: интенсификация полеводства без разведения скота, с использованием одних только растительных, человеческих и минеральных удобрений, лежала за гранью европейских представлений того времени, несмотря на все уважение к китайскому земледелию. Гумусная теория основателя немецкой сельскохозяйственной науки Альбрехта Таера (1752–1828) привлекла к органическим удобрениям еще больше внимания. До середины XIX века многие немецкие крестьяне держали скот «лишь удобрений ради», продажа мяса не окупала содержание животных. «Земледелие – это такой механизм, где одно колесо непрерывно цепляет и двигает другое, – наставлял Шверц. – Но главной движущей силой этого механизма всегда остается хлев, а значит – корм для скота» (см. примеч. 19).
Если многие теории ученых аграриев были хороши только на бумаге и вызывали у практиков одни насмешки, то в отношении удобрений мнения и понимание ученых и крестьян совпадали. «Чтобы иметь побольше навоза, крестьянин пойдет на все», – утверждал священник из Гогенлоэ Иоганн Фридрих Майер (1774), которого Шверц именовал «проповедником гипса» (Apostel des Gipses). Он одобрительно описывает изобретательность своих крестьян в вопросах удобрения, их принцип – «каждое создание, разлагаясь, удобряет другое». Швейцарский «образцовый крестьянин» Кляйнйогг, которого врач города Цюриха Хирцель прославил на всю Европу как «философа от земледелия», старался «превратить в навоз все, что только можно». Для получения обильного навоза он стелил скоту такую толстую подстилку, «что в его хлевах нога по колено уходила в мягкую субстанцию». Особенно важным он считал сбор навозной жижи, этого, по его словам, «драгоценнейшего материала» (см. примеч. 20).
Выражение «где навоз, там Христос» (Wo Mistus, da Christus) стало крылатым, и в ушах крестьян того времени подобная рифма вовсе не звучала богохульством. В революционном 1848 году один крестьянин в Падерборне высек над воротами своего дома надпись: «Хочешь быть набожным христианином / крестьянин, так оставайся на своем навозе / оставь дурака петь о свободе / удобрение – прежде всего». Артур Юнг, считавший, что французское сельское хозяйство во многих местах ненамного опережает таковое у гуронов[183], пришел в неописуемый восторг при виде эльзасских навозных куч: эти кучи, тщательно переложенные связками соломы и прикрытые сверху листьями, были, по его словам, «прекраснейшим зрелищем из всего виденного им прежде». «Восхитительно! Заслуживает всемирного подражания!» Однако наивысшим образцом в искусстве удобрения была для него Фландрия, где систематически использовались и городские отходы, включая человеческие испражнения. Шверц встречал там даже опрятно одетых женщин, собиравших конские яблоки на продажу и тем самым еще и поддерживавших чистоту улиц (см. примеч. 21).
Было ли новым столь серьезное отношение к удобрению? Ведь уже римляне хорошо осознавали его ценность, мудрецы уже тогда учились у крестьян: Сенека утверждал, что крестьяне сами, без помощи ученых, находят «множество новых методов для повышения плодородия». Даже на благотворное действие люпина, очень уважаемого в XVIII веке, указывал еще Плиний Старший. Либих, правда, считал, что в XVIII веке римский «культ навоза» пережил второе рождение после 2000-летнего забвения. Староста Иоганн Тиман в Бракведе под Билефельдом на Рождество 1784 года пичкал своих подопечных новейшими аграрными учениями, попрекая крестьян в том, что они, «враги удобрений», не хотят кормить скот в стойлах, а «гонят» вон из хлева. Майер из Гогенлоэ уже и в те времена знавал крестьян, проявлявших высочайшую сознательность в удобрении. Но вполне возможно, что в тех местах, где люди выгоняли скот на залежь и не стремились выжимать из своей земли сверхприбыли, вопрос удобрений решался более или менее сам собой. Драгоценный овечий помет можно было собирать в овчарнях и без стойлового содержания. Из раннеиндустриальной Англии до нас дошли сообщения о множестве разнообразных удобрений: там экспериментировали с чем угодно и как угодно, из чего, правда, сразу ясно, что во многих регионах проблема так и осталась нерешенной, тем более что процессы, протекающие в почве после внесения удобрений, еще оставались непонятными. Впрочем, и в Англии, стране, которая служила примером для аграрных реформаторов, удобрения ценили не везде, еще в XVIII веке сообщалось о том, что коровьими лепешками, как в Азии, топили печи (см. примеч. 22).