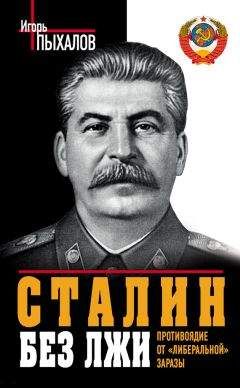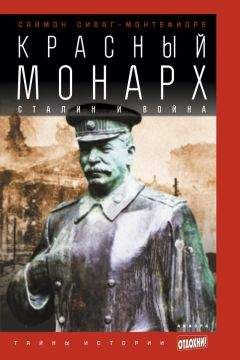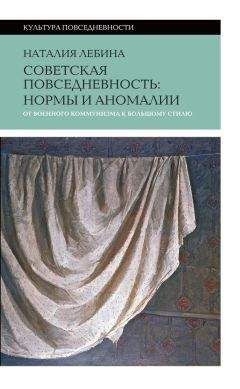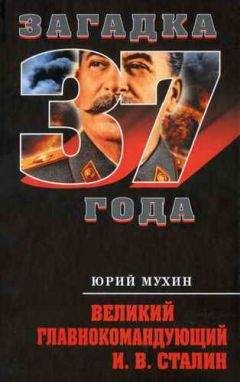Наталья Лебина - Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы.
Размежевание семей в 20-е гг. происходило и на почве борьбы с религией. Это провоцировали и нормализующие суждения власти. Во вводной статье к сборнику по атеистической работе, например, подчеркивалось, что антирелигиозные молодежные кампании — вовсе не праздник, а «битва за освобождение сознания рабочего класса от религиозного дурмана, протест красной молодежи, уже освободившейся от суеверий, против своих отцов, еще костенеющих в парах религиозного дурмана»[642].
Конфликты порождал отказ венчаться в церкви и совершать обряд крещения младенцев, а иногда и просто посещать храмы в дни традиционно отмечаемых Пасхи и Рождества. Споры между родителями и детьми возникали и из-за икон — традиционной детали жилого интерьера не только в селе, но и в городе. Нередко в антирелигиозном порыве юноши и девушки попросту без согласия старших сжигали изображения святых угодников. Подстрекателями в этой ситуации выступали комсомольские и партийные активисты. На областной комсомольской конференции в 1929 г. Киров призвал молодежь как можно скорее распрощаться с иконами в домах. «Могут сказать: неловко обижать родителей, — заявлял секретарь обкома ВКП(б), — все это чепуха»[643]. И все же в первое десятилетие существования советской власти конфликт отцов и детей в большинстве ленинградских семей еще не достиг критической точки. Более того, в ноябре 1926 г. ВЦИК поставил вопрос о возможности восстановления в избирательных правах граждан, ранее принадлежащих к эксплуататорским классам, в том случае, если они в течение нескольких последних лет занимались общественно-полезным, производительным трудом и проявляли лояльность в отношении к советской власти[644]. Дети многих «бывших», превратившиеся теперь в рядовых совслужащих, заметно воспряли духом.
Однако «великий перелом» резко изменил положение. Социальное происхождение становилось серьезной причиной для приписывания человеку статуса общественного изгоя. В 1928–1929 гг. была проведена чистка госаппарата и учреждений культуры от лиц непролетарского происхождения. Потеря места работы в условиях возвращения карточной системы распределения неминуемо влекла за собой резкое ухудшение материального положения. В конце 1929 г. началась кампания по выселению лиц, лишенных избирательного права по советским законам, не только из собственных домов, но и из муниципальных квартир. В 1931 г. прокатилась новая волна чисток, в результате которых многие потеряли работу, так как имели родственников за границей. В процессе паспортизации населения Ленинграда социальную неполноценность и ненужность советскому обществу ощутили дети прежних домовладельцев, заводчиков, банкиров, людей, когда-то именовавшихся дворянами, офицерами, действительными и тайными советниками. Многим из них отказывали в выдаче документов, что влекло за собой высылку из города. Весной 1935 г. после убийства Кирова носителями социальной опасности стали считать не только самих представителей знати, офицерства, чиновничества царской России, но и их детей и даже внуков, назвав их «контрреволюционным резервом».
На почве явного несоответствия социального происхождения родителей суровым требованиям политической конъюнктуры происходил распад семей. Уже в 1933 г. в городе началась кампания исключения из комсомола лиц «чуждого» происхождения. Всего в 1933–1936 гг. в Ленинграде было исключено из комсомола более 3 тыс. чел. за связь с «чуждыми элементами», то есть с родителями. Детям приходилось отказываться от родителей для того, чтобы остаться в рядах комсомола. В середине 30-х гг. это явление было уже зафискировано и в среде рабочей молодежи Ленинграда. Ведь с началом форсированной индустриализации и насильственной коллективизации в ряды промышленных рабочих стали вливаться и раскулаченные, и служащие, и дети «бывших».
В периодической печати того времени нередко появлялись статьи о геройских поступках молодых людей, разоблачивших своих родителей за «преступную деятельность против социализма» и отказавшихся от них. Свой Павлик Морозов нашелся во второй половине 30-х гг. и в Ленинграде. В редакционной статье «Сыновний долг», опубликованной в «Комсомольской правде» в сентябре 1935 г., рассказывалось о комсомольце Н. Максимове, рабочем ленинградского торгового порта, разоблачившем «шайку рвачей», в которой состоял и его отец. «Николай Максимов, — писала газета, — поступил вопреки не писанным законам старой морали. Он разоблачил отца, вредившего новому обществу, исполнив тем самым свой комсомольский долг. Ясно, что этим он вооружил против себя людей, которым враждебна или непонятна еще новая коммунистическая мораль»[645].
Боязнь лишиться комсомольского билета, что в конечном итоге могло повлечь за собой увольнение с работы, отказ в приеме в высшее учебное заведение и т. д., не только усугубляла традиционные противоречия между поколениями, но нередко порождала чувство ненависти к родителям и собственной семье. Дважды Герой социалистического труда питерский рабочий В. С. Чичеров вспоминал: «Было время, когда я ненавидел отца. Тот очень громко выражал свое отношение к власти, а это было в 1937 г. По ночам его не раз арестовывали (?! — Н. Л.). Об этом знали все, и я считался сыном врага народа. Отсюда и ненависть к родному отцу»[646].
Страх кары за происхождение и политические взгляды матерей и отцов явно не способствовал укреплению внутрипоколенных отношений в советской семье. Они были во многом политизированы, а, следовательно, и подконтрольны властным и идеологическим структурам. Конечно, подобные нормы внутрисемейной жизни внедрялись в повседневную жизнь, а, следовательно, и в структуру ментальности косвенным путем. Это и позволяет многим и западным, и отечественным исследователям утверждать, что частная жизнь в советском обществе не знала всепроникающего контроля властей. Опровергнуть полностью это суждение невозможно, — именно поэтому сюжет о сексуальном и матримониальном поведении горожан и помещен в главу, посвященную косвенному нормированию повседневности. Но одновременно нельзя согласиться с тем, что в приватной сфере действовали лишь неофициальные нормы и что она была полностью независима от нормативных и нормализующих суждений властей.
Сложное переплетение норм и аномалий, трагические последствия директивного нормирования интимной жизни, особые стратегии выживания можно выявить, исследуя социальную сторону репродуктивного поведения ленинградцев в 20–30-х гг., и, в частности, проблему абортов. На первый взгляд кажется, что эта проблема носит скорее медицинский характер. Однако не случайно М. Фуко называл медицину сестрой истории. По комплексу вопросов, связанных с политикой регулирования рождаемости, можно изучать историю нравов, и прежде всего норм, действовавших в данном обществе.
Материнство, а уже тем более методы контроля за деторождением, на бытовом уровне представляются типичной сферой частной жизни человека. Однако это не совсем так. Уже в домосковское время — в IX–XIV вв. — документы фиксировали явно отрицательное отношение государства к попыткам предотвратить рождения не желаемого ребенка[647]. В России XV–XVII вв. за процессом регулирования размеров семьи, единственным средством которого был аборт, ревностно следили и государство, и церковь. За вытравление плода зельем или с помощью бабки-повитухи священник накладывал на женщину епитимью сроком от 5 до 15 лет.
По Уложению о наказаниях 1845 г. аборт приравнивался к умышленному детоубийству. Вина за это преступление возлагалась и на людей, осуществлявших изгнание плода, и на самих женщин. Не вдаваясь в юридические тонкости, можно отметить, что аборт карался поражением в гражданских правах, каторжными работами от 4 до 10 лет для врача и ссылкой в Сибирь или пребыванием в исправительном учреждении сроком от 4 до 6 лет для женщины. Эта правовая ситуация оставалась почти без изменений до 1917 г. Действительно, в предреволюционной России искусственное прерывание беременности формально проводилось только лишь по медицинским показаниям. Официально признанной нормой являлось строго отрицательное отношение к аборту, подкрепленное таким мощным инструментарием управления частной жизнью, как антиабортное законодательство и христианская традиция. Иными словами, наличествовали и нормативное, и нормализующее властные суждения, совпадающие по своей сути. В ментальных же нормах в начале XX в. явно прослеживались изменения, связанные с нарастающим процессом модернизации. Российский городской социум, и в первую очередь столичные жители, явно находились на распутье, подсознательно стремясь осуществить переход к неомальтузианскому пути ограничения рождаемости в браке за счет контроля над репродуктивными функциями семьи. Однако использование контрацептивов пока еще не стало нормой повседневности петербуржцев, несмотря на довольно активное рекламирование различных противозачаточных средств в столичных газетах и журналах в 1908–1914 гг.[648] Не удивительно, что количество нелегальных абортов, как отметил собравшийся в 1910 г. очередной Пироговский съезд российских медиков, нарастало в «эпидемической пропорции». Накануне первой мировой войны, по воспоминаниям известного врача Н. Вигдорчика, жительницы Петербурга стали «смотреть на искусственный выкидыш как на нечто обыденное и доступное… по рукам ходят адреса врачей и акушерок, производивших эти операции без всяких формальностей, по определенной таксе, не очень высокой»[649]. Аборт становился несанкционированной нормой повседневной жизни. Женщины-горожанки, по сути дела, игнорировали официальный запрет на искусственное прерывание беременности, демонстрируя тем самым стремление самостоятельно решать вопросы контроля над деторождением.