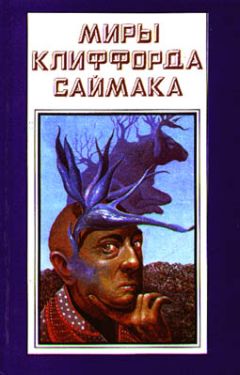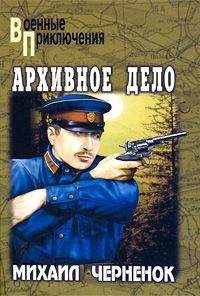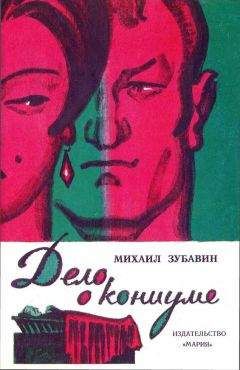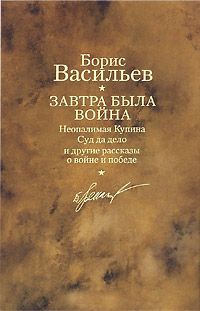Михаил Мягков - Всё о великой войне
В наступившем 1941 г. советско-американские отношения медленно продолжали улучшаться. В первых числах января правительство США сообщило о своем согласии отменить «моральное эмбарго», а затем, 21 января, Уэллес в беседе с Уманским (это была их 15-я встреча) сделал важное заявление: «Если бы СССР оказался в положении сопротивления агрессору, то США оказали бы ему помощь». Такого рода заверения повторялись потом неоднократно. Был достигнут желательный для американской стороны компромисс в вопросе советско-германских торговых отношений. Позиция США, изложенная Штейнгардтом в беседе с заместителем наркома иностранных дел С. А. Лозовским, была следующей: «США помогают Англии, СССР помогает Германии, но США и СССР являются нейтральными державами, между ними нет никаких противоречий, которые толкали бы их к конфликту. Наоборот, имеются все возможности для дружеских отношений». Но в Госдепартаменте считали необходимым, чтобы СССР дал публичное заверение, что продукция, закупленная в США, не поступит в Германию. 24 февраля 1941 г. Уэллес на очередной встрече с Уманским заявил: «Не считает ли советское правительство, что в интересах развития советско-американской торговли и с целью произвести благоприятный психологический эффект в США было бы целесообразно, чтобы Советское правительство в той или иной форме официально заявило, что товары, закупленные в США, предназначались исключительно для нужд СССР».
1 марта 1941 г. госдепартамент США выпустил пресс-релиз, в котором говорилось: «Входе продолжавшихся переговоров с заместителем государственного секретаря США Самнером Уэллесом советский посол Константин А. Уманский сделал сегодня по поручению своего правительства заявление, что товары, которые закупались и закупаются в Соединенных Штатах Союзом Советских Социалистических Республик, включая нефтепродукты и индустриальное оборудование всех категорий, предназначаются исключительно для удовлетворения внутренних потребностей Союза Советских Социалистических Республик». И хотя такие конфликты продолжались, их время подходило к концу. В тот же день Уэллес сделал Уманскому заявление, которому американское правительство придавало характер исключительной важности. Он сообщил, что «по конфиденциальным сведениям, имеющимся в распоряжении американского правительства, в аутентичности которых у американского правительства нет ни малейших сомнений, германские военные планы заключаются в том, чтобы после достижения победы над Англией, несмотря на поддержку последней Соединенными Штатами, напасть на СССР, причем планы этого нападения разработаны германским командованием во всех деталях». Это сообщение было немедленно отправлено Уманским в Москву. По существу оно являлось дезориентирующим: Германия завершала подготовку к нападению на СССР.
История с конфиденциальными сведениями Уэллеса на этом не закачивается. В тот же день, 1 марта, они были направлены Госдепартаментом послу США в Москве с указанием срочно в устном порядке сообщить их Молотову. Их текст заметно отличался: вместо слов «после победы над Англией» значилось: «в недалеком будущем». Штейнгардт выразил Хэллу сомнение в целесообразности передачи этих сведений советскому правительству, в частности на том основании, что это ускорит заключение политического соглашения СССР и Японии. Но Хэлл 4 марта ответил Штейнгардту, что эти сведения уже сообщены 1 марта Уманскому.
В Москве действительно ожидался приезд министра иностранных дел Японии Е. Мацуока, и 13 апреля 1941 г. был подписан советско-японский пакт о нейтралитете. Вскоре после этого Штейнгардт дипломатично заявил Лозовскому: «По мнению Соединенных Штатов, японцы не имеют намерения проводить агрессию в южном направлении, и сам Мацуока заявил категорически об этом. Это было бы сумасшествием… Он, Штейнгардт, также не считает, что пакт о нейтралитете между СССР и Японией направлен против Соединенных Штатов. В действительности этот пакт является еще одним актом к сохранению мира на Тихом океане». В США понимали, что СССР остается серьезной противодействующей Японии силой на Дальнем Востоке, учитывали это в своей политике. Постепенно и в американском общественном мнении стало меняться отношение «к загадочному русскому сфинксу».
Позитивные результаты в ходе советско-американских переговоров этого периода достигались с большим трудом, осложнялись взаимными, подчас необоснованными претензиями, отношения во многом оставались натянутыми, но тенденция к сближению, обусловленная нараставшей угрозой агрессии как против СССР, так и против США, все же прокладывала дорогу. Большая заслуга в этом принадлежала Рузвельту. «Он уже давно склонялся к мнению, — пишет американский историк У. Кимболл, — что политика Советского Союза носит скорее не коммунистический, а националистический характер, более прагматична, нежели идеологизирована. Вследствие этого он отклонял аргументы Буллита и прислушивался к мнению Джозефа Дэвиса, который сменил Буллита на посту посла в Москве. Нацистско-советский пакт и советское нападение на Финляндию, вызвавшие возмущение президента, были интерпретированы Белым домом как следствие скорее советских опасений германской агрессии, нежели коммунистической экспансии».
Надо сказать, что некоторые оценки Л. Штейнгардтом международного положения и политики СССР, несмотря на неприятие советского режима, помогали Рузвельту объективнее разобраться в обстановке. «Основная ошибка союзной, а затем и английской дипломатии, — писал Штейнгардт 2 октября 1940 г. в Вашингтон, — заключалась в том, что она была постоянно направлена на то, чтобы попытаться побудить Советский Союз предпринять определенные действия, которые если и не привели бы к военному конфликту с Германией, то повлекли за собой настоящий риск возникновения такого конфликта». И далее: «Если говорить о советской политике, как я ее понимаю, то она направлена на то, чтобы избежать войны, и, конечно, чем дальше удастся предотвратить нападение Германии и Японии, вовлеченных где бы то ни было в большие войны, тем успешнее будет собственное сопротивление». О «тупом упорстве» Уэллеса говорил Штейнгардт на одной из бесед с советскими дипломатами.
Реалистичной была оценка расстановки сил в американской политике и у советской дипломатии. Однако ей не хватало гибкости. Уманский и Уэллес не нашли общего языка, не доверяли друг другу, что осложняло обстановку на переговорах. Уманский сообщал в Москву, что, по его мнению, Уэллес «тяготеет к более враждебному нам лагерю… Он занимает как бы центристское положение между сторонниками сближения типа Икеса, Моргентау, Гопкинса и обозленной антисоветской кликой буллитовской масти». Но все это имело второстепенное значение. Главное, что ко времени нападения Германии на СССР Рузвельт и Черчилль пришли к общему решению: Великобритания и США поддержат СССР в борьбе против нацистской агрессии. 22 июня, в день нападения Германии на СССР, первым объявил об этом по радио У. Черчилль, 24 июня — Ф. Рузвельт, который заявил на пресс-конференции: «Разумеется, мы собираемся предоставить России всю ту помощь, которую мы сможем». Советская дипломатия и разведка добились максимума в «искусстве возможного», обеспечили достижимые в той обстановке внешнеполитические условия для отражения германской агрессии.
* * *Возвращаясь к версии о виновности СССР во Второй мировой войне, напомним, что вскоре после войны ее принялись разрабатывать при поддержке некоторых немецких парламентариев бывшие гитлеровские генералы и первое поколение историков — неонацистов (Г. Бреннеке, У. Валенди, В. Мазер, У. Хельдмах и др.)
На этот раз «единого фронта» у европейских парламентариев и историков не получилось. На Западе всегда была влиятельной группа ученых, которая сторонилась заказных официозных оценок, придерживалась самостоятельного и объективного взгляда на события. Один из таких британских авторов С. Милайн опубликовал в газете «Гардиан» 9 сентября 2009 г. статью, название которой отражает ее содержание: «Это переписывание истории отравляет атмосферу в Европе. Обвинение СССР в [развязывании] Второй мировой войны не только бессмысленно, но и воодушевляет сторонников нацистского наследия времен войны». Он пишет, что «до сих пор» ответственность за войну «возлагалась на Гитлера и нацистский режим геноцида». Но сторонники «возродившегося правого национализма в Восточной Европе и истерического ревизионизма сравнивают нацизм с коммунизмом». С. Милайн заключает: «Советский Союз внес решающий военный вклад в поражение Гитлера ценой 25 миллионов жизней, поэтому неудивительно то возмущение, с которым русские встретили подобные обвинения».
Резолюция ОБСЕ связана с развернувшейся на Западе кампанией пересмотра оценок антигитлеровской коалиции, попыток представить ее как «ошибку истории», «противоестественный союз», отлучить нашу страну от Победы и изобразить как решающий вклад в нее западных союзников. Дискредитируются решения «Большой тройки», усилилась критика лично Рузвельта и Черчилля за «промахи» в отношениях с СССР, не говоря уже о Сталине, за которым, оказывается, стояли некие «черные силы, направлявшие его злодеяния». Бойцов Красной Армии, освободителей Европы, которых встречали цветами и со слезами радости сотни тысяч жителей многих стран, изображают уродами и насильниками. Включились в эту постыдную кампанию политические деятели крупного калибра. Среди них Дж. Буш, в то время президент США. Выступая в Латвии, он осудил «в одной корзине» мюнхенскую политику, советско-германский договор о ненападении и ялтинские соглашения. Все это происходит в наше время.