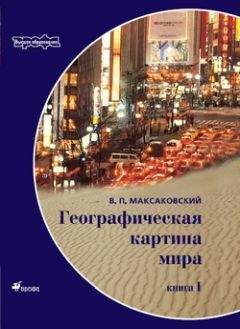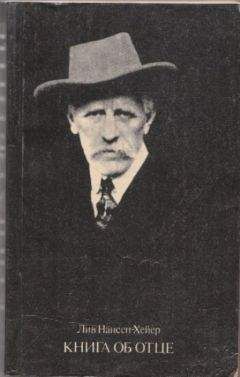Лив Нансен-Хейер - Книга об отце (Ева и Фритьоф)
Она очень редко хвалила певцов, но зато когда мы услышали мадам Кайе и Юлию Кульп, она пришла в совершенный восторг и превозносила их до небес. Оба раза ее отзыв звучал одинаково: «Это совершенство!»
В Лондоне ожидалось прибытие нашей королевской четы. Сначала собиралась приехать королева Мод, а за ней обещал пожаловать король Хокон. Это было приятно. Но потом Англию собирались посетить король и королева Испании и королева Португалии, и Фритьофу стало совсем невесело.
Переговоры по трактату все продолжались, пока наконец в конце октября дело не стало приближаться к завершению.
«Лондон, 30 октября 07
Трактат будет подписан на днях и, может быть, когда ты получишь это письмо, все уже будет закончено. Полагаю, что наши будут теперь довольны. Король в особенности. Бедняга, как он беспокоится. Король Эдуард показал себя в этом деле прекрасно, и всем, чего мы добились, мы обязаны ему. К великому моему прискорбию, он остался очень доволен мною, тем, как я вел это дело, и он поклялся «принцессе Виктории», что не допустит, чтобы «этот человек» покинул Англию. Но только все это напрасно, и я уже заявил ему, что мне необходимо уехать».
Уже на следующий день Фритьоф сообщает:
«После того как я вчера отослал тебе письмо, я получил телеграмму — трактат подписан без всяких изменений, то есть именно в том виде, как мы желали. А стало быть, закончено длинное и трудное дело, а с ним и моя главная задача здесь тоже завершена. Поздравляю тебя, дорогая моя девочка, я уверен, что и ты рада. Я, правда, несколько устал и измотался и потому с удовольствием поеду завтра в Сандрингэм. Там мне не грозит чересчур много изматывающей нервы работы...»
На родине тем временем произошла смена правительства, и Нансен пишет по этому поводу:
«Грустно думать о том, что Миккельсен ушел в отставку. Перед Норвегией он имеет замечательные заслуги, его деятельность долго еще будет сказываться в жизни Норвегии, и память о нем сохранится надолго. Между нами говоря, я побаиваюсь — что-то будет теперь, неизвестно еще, во что это все выльется».
Через неделю после поездки в Сандрингэм на горизонте появился кайзер, и, к огорчению Нансена, это как раз совпало с охотничьим сезоном.
«Значит, я совершенно напрасно приобрел себе охотничий костюм, шапочку, белые замшевые перчатки и вообще вырядился английским помещиком. Когда я приобретал все эти наряды, я ведь думал, что, может быть, и ты сюда приедешь и примешь участие в прогулках, вот и решил принарядиться, чтобы тебе не стыдно было со мной на люди показаться. Но теперь я уже не очень на это рассчитываю. Скоро декабрь — и тогда прощай охота на лисиц. Ну да и бог с ней. Зато пробьет час избавления, я снова буду дома и никуда больше от тебя не уеду».
Как и предполагал Фритьоф, Ева ликовала от радости, что наконец-то состоялось подписание трактата:
«Слава богу, что все уладилось! Надеюсь, ты теперь освободишься. На другой день это известие было во всех газетах. Ну что же, теперь ты с чистой совестью можешь приехать домой на рождество. А все-таки приятно, что король Эдуард по достоинству тебя оценил.
Третьего дня был у меня один из новоиспеченных министров нового правительства с супругой. Оба так и сияли и, казалось, готовы были лопнуть от сознания собственной важности, мне просто было смешно смотреть, и я подумала, как мелки бывают люди. А потом все время думала, какая я счастливая, что мне достался именно ты, ты выше всякого мелочного тщеславия, всякого своекорыстия и преисполнен всего великого и доброго! Бывает, конечно, что я и рассержусь на тебя, но только ненадолго, а вообще я всегда помню, что ты учишь меня только хорошему и что ты сделал из меня лучшего человека.
Недавно встретила у Ламмерсов Бьёрнсона. Он был в ударе и потому очарователен. После обеда он подсел к Эрнсту и ко мне и так хорошо говорил о тебе. По-моему, он вполне понимает, чем ты всю свою жизнь был для своей страны».
Снова заболел Коре, на этот раз воспалением легких. Но чтобы не напугать мать, доктор Йенсен сказал, что это обыкновенная простуда.
«Бедный мальчик,— писала мать,— он такой худенький и бледный, но все равно весел и всем интересуется. Очень усердно читает «На лыжах через Гренландию». Просто трогательно видеть, как он увлечен книгой. Он наслаждается каждым словом и время от времени прочитывает мне вслух отдельные места. Я уверена, что тебя это порадует».
Коре выздоровел, а мама, которая придвинула свою кровать вплотную к кроватке Коре и ухаживала за ним день и ночь, заразилась от него.
Она пишет 21 ноября:
«Спасибо за твоё чудесное длинное письмо. Итак, я, значит, с уверенностью могу ждать тебя домой к рождеству. Как я счастлива!
А я, между прочим, лежу с температурой, но сегодня мне лучше. Четыре дня держалась высокая температура, по-видимому то же самое, что у Коре. Ночью я испугалась, потому что сильно закололо в боку. Я подумала, что это воспаление легких, и как это некстати, и какая неприятность для тебя. Но сейчас пришел д-р Йенсен, и он уверяет, что это обыкновенная простуда... Кажется, я устала...»
Она продолжала на новом листе в том же конверте:
«Только что получила от тебя чудесное письмо. Все для меня залито солнцем».
Никто из нас не понял, как сильно больна была мать, по-видимому, даже д-р Йенсен этого не понимал.
«Дорогой мой, самый лучший, самый хороший!— писала она отцу 25 ноября.— Наконец я совсем здорова и чувствую, как с прежней силой пульсирует кровь в моем теле. Ах, ты и представить себе не можешь, что это значит после нескольких дней болезни! Все разом просветлело, и жизнь снова кажется мне такой богатой и чудесной!
Ты и представить себе не можешь, как мне было скверно. Все время лихорадило, тошнило, головная боль и ломота во всем теле и колотье в спине. А кашель такой, что я боялась лопнуть. В рот не брала ни крошки, только вчера чуть-чуть поела, зато сегодня у меня такой аппетит, что я уничтожу все съестное в доме, но мне и надо поправляться. Посмотрел бы ты, как я исхудала,— ты бы прямо не узнал меня. Я уж рада, что у меня есть в запасе время снова нагулять жирок к твоему приезду. Постараюсь похорошеть ради тебя.
Д-р Йенсен был нам верен и навещал меня ежедневно. Он хорошо следит за всеми нами. Коре уже совсем здоров, но мы соблюдаем осторожность и не выпускаем его на улицу, здесь была плохая погода — туман и дождь каждый день. Сегодня сильный снегопад, и он радуется, что можно погулять по первому снежку. Все трое малышей на дворе, каждый со своими салазками. Я слышу их радостные вопли и визг вперемежку с криками, когда кто-нибудь наедет на пень, вывалится из санок, ушибется. Но они тут же вскакивают, и игра начинается снова.
Дорогой мой, любимый мальчуган, спасибо, что часто пишешь. Только на днях получила длинное письмо, как славно получить от тебя весточку! ...В двенадцать мне позволят встать, и я буду сидеть за праздничным столом вместе со всеми — с д-ром Йенсеном, с Лив, Имми и Коре.
...Ты-то рад, что у тебя такие чудесные детки и ты снова будешь с ними, сможешь следить за их развитием изо дня в день. Это ведь не то, что видеться с ними раз в три месяца. Мне все кажется просто сном, что ты теперь будешь дома со мной и, такой довольный, уютно будешь посиживать со своей длинной трубкой в рабочем кабинете, а потом, наработавшись всласть и проголодавшись, спустишься к обеду, где тебя будет дожидаться твоя Ева-лягушонок, окруженная молодняком.
Целую тебя в губы, по которым я так соскучилась, привет от деток.
Твоя Ева-лягушечка».
«Любимая моя милушка Ева!
Получил твое славное письмо, где ты сообщаешь, что одолела свою лихорадку и будешь участвовать вместе со всеми в праздничной трапезе. Я было совсем перепугался, что ты так разболелась, а я и не знал ничего и не был с тобой. Наверное, у тебя было что-то вроде инфлюэнцы, и настоятельно тебя прошу быть теперь особенно осторожной, иначе ведь это может затянуться надолго, а тебе совсем не полагается хворать. Утешаюсь надеждой, что твоя крепкая здоровая натура снова совсем выправит тебя.
Очень странно, но я никак не могу представить себе тебя по-настоящему больной. Это у меня просто в голове не укладывается. Я, конечно, беспокоился, узнав, что ты болеешь и что у тебя сильный жар, я был опечален, но по-настоящему не испугался. А вот теперь понимаю, что дело было серьезное, а меня не было рядом, чтобы немного подбодрить тебя. Теперь я счастлив, что самое худшее позади и ты снова на ногах.
...Я несказанно рад, что снова буду с тобой, дома, и снова смогу распоряжаться своим временем. Нам будет просто невероятно хорошо».
После ухода доктора Йенсена, когда дети улеглись, я сошла в холл. Мама находила, что я «хорошая публика», как она выражалась, и поэтому часто по вечерам пела для меня одной. Она села за рояль и вынула Кьерульфа. Она спела мне мои любимые песни: «Течение реки», «Чудесная страна», «Уснуло дитя». Голос ее звучал по-прежнему чисто и сильно, и она радовалась этому. Но дыхание было тяжелее обычного. Так и вижу ее перед собой, освещенную лампой над роялем, в красном капоте, с небрежно заколотыми волосами, бледным, утомленным, но таким просветленным лицом. Когда она пропела: