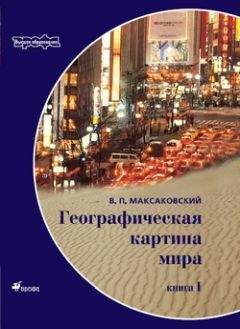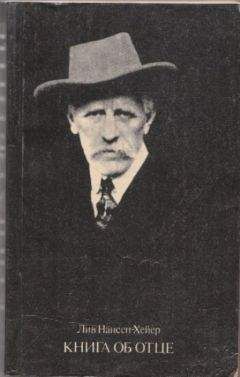Лив Нансен-Хейер - Книга об отце (Ева и Фритьоф)
Наконец мы услышали оклики отца со склона горы, и все остальные дети, игравшие за домом под окном его комнаты, живо прибежали. Маленький Осмунд, толстенький и неуклюжий, прибежал последним, но это ничуть не омрачило его радость. Отец сбежал с горы быстрее ветра, разгоряченный и тоже очень загорелый, ничуть не утомленный и не похудевший, каким он бывало являлся к нам в Сёркье.
Его рюкзак был битком набит подарками для всех нас, и, раздавая их, он радовался ничуть не меньше, чем мы, получая их. «И об этом даже подумал!»— воскликнула мать, когда он извлек из мешка четыре артишока и большущую дыню.
Да, ликование домашних было велико. Разлука бывала долгой и горькой, но тем радостнее было свидание.
Вскоре после приезда отца мне, однако, пришлось уже отправляться в школу. Мне уже нельзя было проводить всю осень в горах, а то я отстала бы от класса. Договорились, что жить я буду в мансарде у дяди Эрнста и дяди Оссиана, а днем находиться внизу на первом этаже у тети Малли и дяди Ламмерса, так что устроена я была хорошо. Но, что и говорить, меня очень тянуло назад в Сёркье, ко всем своим, и потому я была очень рада, когда они наконец вернулись домой и мы все собрались в Люсакере.
Но вот отцу опять пришло время уезжать в Лондон, и тут на него свалилось столько всяческих дел, что он даже не успел повидаться с Вереншельдом, с которым мечтал встретиться и поговорить. Однако Руал Амундсен ухитрился таки повидать отца, и по весьма важному поводу. Несколько месяцев тому назад Амундсен уже обращался к отцу с просьбой уступить ему на время «Фрам» для экспедиции на Северный полюс, которая должна была продлиться несколько лет, с целью тщательных научных исследований в северных полярных водах. Амундсен считал, что осуществление этого плана лишь немного отсрочит задуманную Нансеном экспедицию на Южный полюс, но сам-то Нансен хорошо понимал, что отдать «Фрам» теперь означало навсегда отказаться от мысли о Южном полюсе, а это было нелегким решением.
Он давно уже задумал эту экспедицию и только ждал, когда освободится от других обязательств, чтобы уехать, тем более что все было уже основательно подготовлено. Поэтому он хотел как следует подумать, прежде чем дать окончательный ответ Амундсену. При этом он находил, что экспедиция Амундсена для науки так же важна, как и его собственная. Думал он и о Еве. Да, особенно о ней. Жестоко было бы снова покинуть ее. Да и сам он, сможет ли он? С другой стороны, бессмысленно потраченные в Лондоне годы пробудили в нем сильную жажду деятельности, стремление, пока он молод и полон сил, приложить эти силы к настоящему делу.
Он все не решался заговорить об этом с Евой и поделиться с ней обуревавшими его мыслями и сомнениями. Она при своей чуткости понимала, что он страдает оттого, что стоит перед важным решением, но тоже не решалась первая этого коснуться. Так они и ходили друг около друга, словно кошка вокруг миски с горячей кашей, и оба мучились, и чем дольше это тянулось, тем меньше решимости оставалось у Фритьофа. В конце концов он не выдержал и излил Еве все свои сомнения. Не думая о себе самой, она сумела понять его мысли с таким сочувствием и такой прозорливостью, что он был этим потрясен до глубины души. И тем не менее он никак не мог принять окончательное решение, и когда пришел Амундсен и ждал в зале ответа, Ева не могла скрыть своего волнения. Из своей спальни она прислушивалась к медленным шагам Фритьофа наверху в кабинете. Высоко подняв брови, она только взглянула на него, когда он вошел к ней. «Я знаю, чем это кончится»,— сказала она.
Не говоря ни слова, Фритьоф вышел от нее и спустился по лестнице в холл. Там его встретил напряженный взгляд другой пары глаз.
«Вы получите «Фрам»»,— промолвил отец.
На пароходе по пути в Англию он писал Еве:
«Забыть не могу твоей трогательной доброты, когда я наконец решился посоветоваться с тобой по делу Амундсена, о котором я так страшился заговорить. Мне надо было сделать это давным-давно... Я просто дурачина, все размышляю про себя вместо того, чтобы поговорить с тобой. Ты ведь все равно знаешь все мои помыслы, а я тут соображаю, как избавить тебя от всяких ненужных мучений из-за дел, которые, быть может, никогда не сбудутся. Наверное, ты права, что это нехорошо и деликатность такая — ложная и никчемная. Я чувствую такое облегчение после разговора с тобой, и мне все представляется теперь совсем иначе, чем раньше. Как я уже сказал тебе, я теперь знаю, что из задуманной мною экспедиции ничего не выйдет. У меня, в сущности, так много другой работы, которую мне очень нужно закончить.
А сейчас в первую очередь мне нужно справиться со всеми делами здесь, в Лондоне, и какое же это будет блаженство навсегда со всем этим покончить! Может быть, я и принес там кое-какую пользу, но уж очень много ушло на это времени».
На это Ева ответила:
«Какой же ты молодец, что написал мне прямо с парохода. Я так обрадовалась, ведь я не ждала писем так скоро. И ты так меня расхвалил, я и не заслуживаю, мне даже совестно стало. Ты сам знаешь, что любая женщина, искренне любящая своего мужа, счастлива, когда его способности приносят пользу и когда он делает все, что может и обязан свершить в своей жизни. Запомни на будущее, что я всегда буду благодарить судьбу за то, что она подарила мне тебя, уедешь ли ты временно от меня или останешься со мной. Жизнь с тобой, даже если она принесет тревоги и заботы, в десять раз лучше, чем с каким-нибудь заурядным человечишкой».
О детях Ева сообщала:
«Имми уже привыкла к школе. Однако, когда ей что-нибудь надоест, она так прямо и заявляет учительнице: «Простите, это скучно, я лучше буду вязать». Одд огорчен, что ему нельзя учиться вместе с ней, и Лив понемногу учит его буквам и цифрам, и он в восторге. Осмунд делает огромные успехи, ты сам увидишь, когда приедешь, как он развился...»
Наши трое малышей и впрямь были бойкие ребята, мать по праву могла ими гордиться. В детстве все они были светловолосые. Имми и Осмунд унаследовали от отца голубые глаза и белую кожу. Одд пошел в маму, у него были карие глаза и более смуглый цвет кожи. Характерные линии скул, ямочки на щеках он тоже от нее унаследовал, был невысок ростом и плотного сложения. Мы долго думали, что из него выйдет типичный отпрыск рода Сарсов, но с возрастом это прошло. Мы любили называть его «Оддом Серьезным», уж очень он был задумчив, всегда погружен в свои ребячьи мысли.
Для Имми жизнь была игрой, развлекалась ли она с куклами или с другими детьми. Она была добра и послушна, а ее проворная фигурка вечно была в движении. Самым добрым был все-таки Осмунд. Мне кажется, в этом ребенке не было ни капли эгоизма. Одд бывало заупрямится, если что-нибудь было не по нем. Имми порой говорила: «Я лучше займусь чем-нибудь другим». А от Осмунда никто ни разу не слыхал ни протеста, ни единой грубости, всегда он всему только радовался. Коре осенью 1907 года исполнилось десять лет. Он сильно вытянулся за последний год, окреп и раздался в плечах. В детстве мы его прозвали «Сундук-голова», потому что у него был очень выпуклый затылок. Когда его стали стричь короче, «сундук» стал еще заметней и прозвище так и осталось за ним. Сам он считал свою кличку большим комплиментом и даже любил в письмах подписываться «Коре-Сундук». Мать гордилась своим старшим сыном не меньше, чем другими детьми.
«Коре бойкий мальчик, и все находят, что он все больше становится похож на тебя, и меня это радует. Я ведь никогда не могу наглядеться на тебя досыта, горюшко ты мое! Вот когда ты будешь в отъезде, у меня останется в утешение мой мальчуган! А он к тому же такой хороший и так любит меня».
В Люсакере нас опять посетила простуда, но 20 октября она уже могла доложить:
«Все твои пятеро птенцов опять в полном порядке, и сегодня мы все обедаем у Сарсов. В следующее воскресенье хочу позвать их всех к нам, я уже давно не приглашала их.
...На днях была у д-ра Йенсена в Беруме, в клинике для туберкулезных, и пела для больных. Они были так трогательно счастливы. Многие плакали. Особенно трогательна была одна девочка лет десяти. Она последние дни доживает. Ее принесли вниз закутанную в плед, и она сидела с такой ясной улыбкой на бледненьком исхудалом личике. Я буду часто там петь для них...»
Мать водила меня на концерты, и там она мне рассказывала обо всем, что мы слушали. Она была строгим критиком и многому меня научила. Подчас она обдавала меня холодным душем. Помню, раз мы слушали Es-dur Бетховена в исполнении одного из наших молодых пианистов. Я была в восторге от анданте, но мать сказала: «Конечно, он много обещает, но я поверю в него только тогда, когда он будет играть взволнованно, а то оркестр совсем его забивает. Нет, по правде говоря, он плох».
Она очень редко хвалила певцов, но зато когда мы услышали мадам Кайе и Юлию Кульп, она пришла в совершенный восторг и превозносила их до небес. Оба раза ее отзыв звучал одинаково: «Это совершенство!»