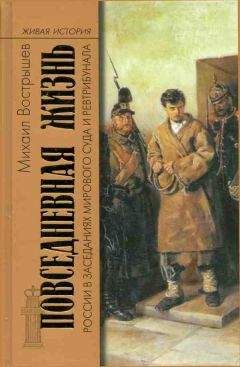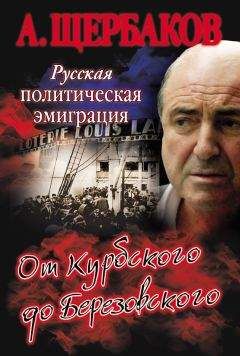Алексей Зверев - Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920–1940
Тем не менее злоба дня ворвалась и в этот тщательно от нее оберегаемый мир. В 1946-м и Присманова, и Гингер зачем-то взяли советские паспорта, хотя они, покинувшие Россию в разгар гражданской смуты, возвращаться не собирались. Но в Союзе советских патриотов, контролируемом Лубянкой, оба бывали, а Гингер еще и работал в финансируемой посольством на рю Гренель газете «Русские новости», губя свою репутацию в эмигрантских кругах. Видимо, еще и по этой причине «Соль», лучшая книга Присмановой, осталась незамеченной. На средах, которые устраивались в их доме, бывали только те, кто сам оказался, как Адамович, небезгрешен, когда посол Богомолов принялся выполнять указ о возвращении советского подданства покаявшимся русским парижанам.
Перед смертью, в 1960 году Присманова нежданно для всех опубликовала большую поэму, целую повесть в стихах, которая посвящена Вере Фигнер, и разговоры о том, что она «покраснела», как будто получили еще одно подтверждение — мнимое, если прочесть саму повесть. Гингер пережил Присманову всего на пять лет, успев перед смертью выпустить итоговую книгу «Сердце».
Связывало их что-то намного более важное, чем принятые обоими поэтические принципы. Шаховская пишет: «Обликом походили они несколько на химер, но по своему духовному облику существа были серафические, вечно ищущие». А другой мемуарист, поэт Кирилл Померанцев, добавляет, что «они осуществляли друг друга: их души были близнецами». И когда Присманова умерла, для Гингера жизнь тоже окончилась, он стал словно собственной тенью и думал только о том, чтобы успеть с последней книгой, памятником той, кого когда-то, в самом начале их романа назвал «супругой, взысканной душой».
Запомнили, что между ними вечно шел спор из-за того, что «узлы» получились слабыми, а «бугры», наоборот, топорщились. Но запомнили и другое: их необыкновенную преданность друг другу. Во всем русском литературном Париже, пожалуй, была только еще одна такая же пара — Раиса Блох и Михаил Горлин.
Они появились в Париже поздно, в 1933-м, бежав из Берлина, где с их фамилиями оставаться было невозможно. Давней подруге и коллеге по профессии Ольге Добиаш-Рождественской Блох написала в Ленинград: «Надо поскорее все забыть и от звериного и расового начала вернуться к человеческому». Но и в Париже жизнь предстояла тяжелая: бесконечные уроки, чтобы свести концы с концами, а для души — почти не оплачиваемая работа над рукописями Аристотеля (специальностью Блох было Средневековье, она знала и античность).
Когда-то в Петрограде она посещала переводческую студию Михаила Лозинского, участника гумилевского Цеха поэтов, знала и самого Гумилева, похвалившего ее стихи. Университет послал ее летом 1922 года в научную командировку, и она осталась в Германии. Начинающие берлинские поэты образовали кружок, где бывал и молодой Набоков. Отношения с ним у Раисы Блох с самого начала не складывались. Когда вышел «Мой город», он в «Руле» отозвался о книжке пренебрежительно: сладковатые и смутные литературные реминисценции, что-то золотистое, светленькое, попахивающее «холодноватыми духами Ахматовой». При наборе выпала строка и получилось, что набоковский упрек автору в пристрастии к невыразительным прилагательным подкреплен подсчетами частоты употребления таких слов, как «огонь» и «туман». Возмущенная Блох написала Георгию Лозинскому, брату своего наставника в искусстве перевода, что, пожалуй, пошлет зоилу очерк элементарной грамматики. Лозинский печатно высмеял рецензента и тут же получил ответный выпад.
Потом пошла речь о коллективном сборнике берлинских русских поэтов, и надо было решить, необходимо ли участие Набокова. Блох сочла, что оно все-таки необходимо, хотя мысль о соседстве с враждебной ей «райской птицей» не грела. Набоков, впрочем, уклонился от такой чести.
Руководил берлинским поэтическим кружком Михаил Горлин, почитатель Гофмана, о котором он написал блестящую диссертацию, построенную на сопоставлении прозы немецкого романтика с повестями Гоголя. Знавшие Горлина пишут, что был он маленького роста, сероглазый, пухлый, как девочка. Между ним и Раисой Блох была большая разница — возрастная (она одиннадцатью годами старше) и по воспитанию. Блох происходила из культурной семьи, ее отец, известный критик, в Берлине создал издательство «Петрополис», одно из самых престижных в Зарубежье; Бунин после Нобелевской премии именно там выпускал свое собрание сочинений. Книжка Раисы Блох «Мой город» вышла тоже в «Петрополисе» в 1928-м, а через восемь лет там же выпустил свой единственный сборник «Путешествия» Горлин, сын еврейского коммерсанта, не захотевший унаследовать отцовское дело.
К этому времени они были женаты. Брак зарегистрировали, перебравшись в Париж. Многих этот союз удивлял: уж очень они несхожи — он по виду слабый, незащищенный юноша, она зрелая женщина, которой не занимать энергии и воли. Однако оказалось, что они прекрасно дополняют один другого и что их чувство исключительно прочное. Правда, впечатление, которое оставлял Горлин, было обманчивым, он умел, когда нужно, проявлять настойчивость, и это его стараниями в Берлине вышло три антологии русских поэтов, последняя — перед самым их бегством. А в Париже Горлин стал секретарем Славянского института при Сорбонне.
Город его пленил, очаровал: «О, гигантское П, начинающее священную песню Парижа!» — и ему казалось, что можно дни напролет наблюдать, как
…светлый искусный балет танцуют дома и люди,
Автомобили, и фонтаны, и даже памятники
с нелепо вытянутыми вперед руками.
Горлин стыдился своей сентиментальности, но как же было не плакать от восторга, когда в дымном свете воробей взлетает на руку белесой богини в саду,
Или когда над путаницей крыш и мостов,
а потом все ближе и ближе.
И вдруг спокойно и четко, как во сне, встает
мистический шкаф Notre-Dame?
Блох ощутила этот город, видимо, по-иному. Для нее в целом свете по-настоящему существовала только одна столица, та, где «корабль червонный на тонком шпиле вознесен». С Петербургом для нее навсегда слилась память о юности, поэзии, счастье. В ее сознании все это так и осталось не только петербургскими символами, а какими-то магическими знаками — Летний сад, Фонтанка и Нева. Изгнание для Раисы Блох было непереносимой мукой больше всего из-за того, что эта магия исчезла навеки.
Вы, слова залетные, куда?
Здесь шумят чужие города
И чужая плещется вода.
Написанные незадолго до бегства из Берлина «Чужие города» стали, наверное, самым известным и популярным стихотворением из всего созданного в эмиграции. Многие и не подозревали, что это строки Раисы Блох, потому что стихи нельзя отделить от пронзительного романса, который пел Вертинский — и почти всегда по нескольку раз, на бис. Слушавшим его было не так уж важно, кто настоящий автор. Главное, что боль и тоска эмиграции, та открытость, с которой все это выражено, все самое притягательное, чем завораживала и поэзия «парижской ноты», прозвучало с такой покоряющей чистотой тона:
Вас не взять, ни спрятать, ни прогнать.
Надо жить — не надо вспоминать,
Чтобы больно не было опять.
Стихи были напечатаны во втором сборнике Раисы Блох «Тишина», на который отозвался Адамович, особо отметив, что автор «ни в какие платья не рядится, ничем не притворяется». Она успела издать, совместно с другим поэтом, Миррой Бородиной, еще одну поэтическую книгу — «Заветы». Было это за несколько месяцев до войны.
Горлина арестовали первым, он попал в пересыльный лагерь Потивье, а оттуда был увезен в Германию. Спасая свою дочь Дору, Раиса Блох попыталась перебраться к отцу в Швейцарию. Пограничники не поверили, что ее паспорт настоящий, — Дора, которой было шесть лет, умерла по дороге, а со старого снимка смотрела женщина, которую еще не изуродовало несчастье, — и выдали беглянку немцам. Раиса Блох погибла в 1943-м, Горлин, кажется, еще раньше. Дописывая историю русского Монпарнаса, время окрасило трауром последнюю страницу.
* * *Когда впоследствии вызывали из небытия монпарнасские тени, первым неизменно вспоминалось имя Бориса Поплавского. Почти все находили, что среди принадлежавших к Монпарнасу он был самой характерной фигурой, да и самым талантливым. Даже Набоков, когда-то написавший о единственной прижизненной книге Поплавского Флаги крайне недоброжелательно (нельзя относиться к этим стихам всерьез, это какая-то невозможная смесь из Северянина, Вертинского и Пастернака, к тому же густо приправленная ангельскими эпитетами, — получается крашеный марципан), через двадцать лет покаялся в своей автобиографии, признав, что был слишком к нему придирчив и недооценил его «обаятельных достоинств».