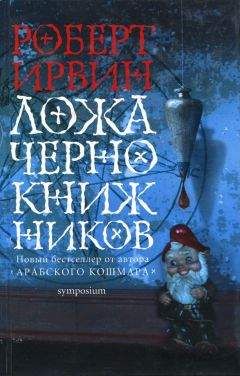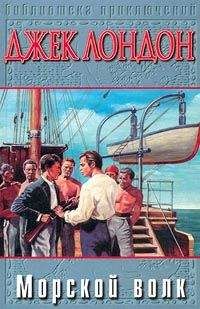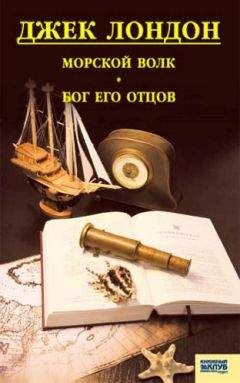Роберт Робинсон - Чёрный о красных: 44 года в Советском Союзе
«Боб, я искал случая передать президенту твое письмо, — сказал он. — Не пропустил ни одного официального приема, когда можно было оказаться с ним рядом. Однако люди из КГБ не отходили от Туре ни на минуту. Попытайся я прорваться сквозь их заслон, я бы сейчас не разговаривал здесь с тобой. Ты уж извини».
Что я на это мог ответить? Поблагодарил, сказал, что все понимаю и ценю его попытку мне помочь. В полном отчаянии я вернулся домой и положил запечатанный конверт с письмом в верхний ящик моего сундука. После этого закрыл все ящики и дверцы на ключ.
Когда два года спустя я узнал о предстоящем визите в СССР президента Ганы Кваме Нкрумы, я решил еще раз попробовать осуществить свой давний план. Чтобы не излагать просьбу заново, логично было переписать письмо к Туре, которое хранилось у меня все это время. Однако в ящике сундука, где всего две недели назад я его видел своими глазами, конверта с письмом не оказалось. Куда он мог пропасть? Не положил ли я его случайно в ящик с фотографиями? Нет, там его не было. Не оказалось его и в ящике с носовыми платками. Может, конверт выпал из сундука на пол? На коленях я исползал всю комнату. Снова и снова заглядывал в каждый ящик. Проделав это раз двенадцать, не меньше, наконец, сдался. Я был в полном недоумении — ведь я отлично помнил, что не вынимал конверта из сундука.
Целую неделю, каждый вечер возвращаясь домой с работы, я возобновлял поиски, которые заканчивались ничем. За два дня до объявленного визита Нкрумы я написал письмо заново. Проблемы это не составило, но мысль о пропаже продолжала меня беспокоить. На этот раз я решил сам попытаться передать письмо. Мне повезло встретить пресс-секретаря Нкрумы в гостинице «Ленинградская». Он согласился передать письмо президенту, но выполнил ли он мою просьбу, я не знаю, потому что ответа я не дождался. Думаю, что даже если Нкрума получил мое письмо, он вряд ли захотел мне помочь, поскольку это могло быть воспринято как вмешательство во внутренние дела Советского Союза, с которым он пытался установить дружественные отношения. Что касается пропажи, то я продолжал поиски письма. Через год у меня появились кое-какие подозрения по поводу его исчезновения, которые подтвердились спустя еще несколько лет.
Прозрение наступило в 1965 году в доме отдыха Завидово под Москвой. Однажды вечером на танцплощадке ко мне подошла полноватая женщина лет сорока пяти: «Товарищ, я заметила, что вы всегда один. Почему вы не танцуете? Уверена, вы прекрасный танцор. Угадала?»
Я отшутился: «Да, когда-то я довольно хорошо танцевал, но с тех пор колени у меня заржавели, и, боюсь, суставы вот-вот заскрипят. Ноги перестали меня слушаться». На следующий день, после обеда, женщина снова нашла меня и спросила, что я собираюсь делать. Обычно в это время я гулял в лесу или сидел где-нибудь на причале с книжкой. Она предложила вместе пойти на прогулку. Судя по ее речи, по тому, как она одевалась, Лидия Степановна — так ее звали — была женщиной образованной, интеллигентной. Вернувшись в дом отдыха, мы договорились встретиться на следующий день после обеда. Тогда я узнал от нее, что она член партии, что ее муж, тоже член партии, пропал в 1952 году, что у нее есть взрослая замужняя дочь и что сама она успешно работает в Москве экономистом. Она вдруг прервала свой рассказ и замолчала, как будто обдумывала что-то, вспоминая прошлое. Потом посмотрела на меня грустно и спросила:
— Вам можно доверять? Вы первый иностранец, с которым я так запросто, по-дружески, могу говорить. Большинство иностранцев, с которыми я встречаюсь по работе, — большие шишки у себя на родине, и мы ведем только чисто деловые разговоры.
Я насторожился. Не была ли она подослана КГБ, чтобы заманить меня в ловушку? В конце концов, инициатива в наших отношениях исходила только от нее. Я спросил осторожно:
— В каком смысле — доверять?
— Просто я чувствую, что вы способны понять то, что меня волнует.
— Можете быть уверены: все, что вы захотите сказать, останется между нами.
— Знаете, я в партии уже больше двадцати пяти лет и многое принесла ей в жертву — как и мой муж до своего исчезновения. Но все впустую. После XX съезда я поняла, что не могу больше верить в незыблемость идеалов партии. Многие мои друзья думают также: они удручены, никому не доверяют и уверены, что нас обманули. Мы считаем, что в нашей стране никогда не наступит настоящий коммунизм.
«Ничего себе! — подумал я. — Вот так откровение! Если это ловушка, то серьезная». Я боялся сказать что-нибудь, что могло быть воспринято как согласие. Опустил глаза, словно задумавшись над ее словами. Она ждала ответа.
— Не думаете ли вы, что нехорошо держать под подозрением человека, который столько лет верно служит этому строю? — спросила она.
— Что значит под подозрением? — пробормотал я. Мне стало не по себе, ведь эта женщина словно прочитала мои собственные мысли о жизни в СССР.
— Вы не поверите, — прервала она молчание.
— Может, поверю, а может, нет.
— Так вот, представьте себе, что последние четыре года каждый раз, когда вы уезжаете в отпуск, вашу комнату обыскивают в поисках инкриминирующих вас документов. Представьте себе, что эти документы забирают, фотографируют и возвращают — но так, чтобы вы сразу поняли, что кто-то рылся в ваших вещах. Если бы такое случилось с вами, что бы вы почувствовали? Отвращение к системе? Обиду?
«Боже правый!» — подумал я, вспомнив о пропавшем письме к Туре. И как это я раньше не догадался! Вероятно, письмо попало в КГБ. Значит, они знают о моем секрете. Знают о моих попытках уехать. Несомненно, эта женщина меня проверяет. Она служит в КГБ, где ей рассказали о моем письме; и теперь она старается вытянуть из меня какое-нибудь антисоветское заявление, за которое меня прямиком отправят в лагерь, в Сибирь. Хотя меня страшно расстроило, что моя мечта уехать перестала быть тайной, я ничем не выдал своих чувств.
— Почему бы вам не обратиться в милицию, когда вы уезжаете в отпуск, и не попросить их присматривать за вашей квартирой? — спросил я ее.
— Нет, нет. Ну что вы! Вы не понимаете, как работает наша система. Они могут беспрепятственно вмешиваться в вашу жизнь, а жалобы лишь навредят вам. В нашей стране нет ничего похожего на честный суд; гражданин, который попытается воззвать к справедливости, попадет в настоящую беду.
Ее слова меня озадачили. Может быть, она была искренна со мной, и я неправильно ее понял? Или она искусно расставила сети? Так или иначе, я не собирался рисковать. Всю обратную дорогу до дома отдыха я продолжал беседу, как ни в чем не бывало. Первое, что я сделал, когда вернулся в Москву, это заглянул в ящик сундука. И глазам своим не поверил!
Пропавшее письмо таинственным образом возвратилось. Конверт был заклеен — или, правильнее сказать, перезаклеен. Он лежал в том же ящике, хотя и не на том же самом месте, куда я положил его три года назад.
Теперь я окончательно понял, почему последние три года заводское начальство препятствовало моим контактам с любыми приезжавшими к нам иностранцами. Они опасались, что я познакомлюсь с кем-то, кто захочет помочь мне вырваться из советского плена.
Несколько лет спустя, вернувшись из очередного отпуска, я обнаружил пропажу других, чрезвычайно для меня важных документов. Их так никогда и не вернули мне. Очевидно, КГБ посылал ко мне специалиста, способного справиться с американским замком с секретом, а потом тщательно обыскать все мои вещи.
Органы госбезопасности стали еще более активными начиная с середины шестидесятых годов, после того как в октябре 1964 года Леонид Брежнев сменил Никиту Хрущева на посту Первого секретаря ЦК КПСС. Хрущев не прибегал к репрессиям, подобно Сталину, но Брежнев оказался хуже Хрущева и более изощренным, чем Сталин. Вскоре после того как он пришел к власти, он воскресил российскую практику XIX века объявлять сумасшедшими и заключать в психиатрические лечебницы тех, кто осмелился поднять свой голос против режима.
Насколько я знаю, никто в стране не любил Брежнева, даже коммунисты. Он был запойным пьяницей и, говорят, иногда совершенно терял голову и не понимал, что делает. У меня были все основания считать, что мне по-прежнему грозит большая — если не большая — опасность.
Часть IV
От Брежнева до Горбачёва
Глава 30
Вновь в ловушке
Летом 1967 года я получил путевку в дом отдыха, где-то на полпути между Москвой и Ленинградом. В семь утра я вышел из поезда на станции Вышний Волочек. Там отдыхающих ждал специальный автобус, который за тридцать минут довез нас до места. Я прописался, погулял немного и пришел в столовую задолго до полдника.
У отдыхающих, впервые собравшихся за столом, было принято по очереди представляться друг другу, пока все со всеми не перезнакомятся. Начиная с 1951 года, когда советским гражданам строго запретили общаться с иностранцами, со мной предпочитали не знакомиться — ни в столовой, ни в первый вечер на танцплощадке. Поскольку пропаганда против иностранцев не делала различий между настоящими иностранцами и людьми вроде меня, давно уже ставшими законопослушными гражданами СССР, советские люди относились ко всем «не нашим» одинаково грубо, с нескрываемым подозрением. Нередко случалось, что в переполненном вагоне метро два места, справа и слева от меня, пустовали.