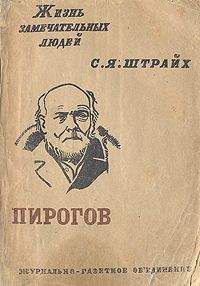Николай Пирогов - Из Дневника старого врача
Надо было теперь отправляться в С.-Петербург, представиться министру и ждать там окончательного решения об избрании меня советом университета.
Я сшил себе на заказ в Дерпте какую-то фантастическую теплую фуражку, с тем намерением, чтобы она служила мне и вместо подушки. Это было нечто вроде суконного шара, подбитого ватою на шелковой подкладке, с длинным и мягким (суконным же) козырьком и двумя наушниками, так прилаженными, что их можно было ad libitum (По желанию) и опускать вниз на уши, и загибать вверх.
Я распространяюсь об этой шапке потому, что к изобретению ее, как мне кажется теперь (прежде я, верно, не сознался бы в этом и самому себе), послужил поводом зеленый картуз, постоянно красовавшийся на голове Руста и почему-то мне нравившийся; теперь, когда мне предстояло избрание в профессора русско-немецкого университета, мне казалось, что и шапка, подобная картузу Руста, будет весьма уместна на моей голове. И цвет этой шапки был также зеленый.
Впрочем, это только предположение, пожалуй и не совсем вероятное; но почему-то мне кажется теперь, что существовало что-то подобное этому предположению в моем воображении.
Уже был настоящий зимний путь, когда я отправился из Дерпта в С.-Петербург. В Петербург приехав ночью, я не знал куда деваться. Ямщик возил меня по разным заезжим домам и гостиницам часа три, и нигде не находилось порожнего номера.
Я приходил в отчаяние уже, как, наконец,- не знаю, в каком-то захолустьи на Петербургской стороне,- нашлась одна комната с голою кроватью, прикрытой рогожей. Я, как вошел в этот притон, так и повалился на кровать, не раздеваясь, в енотовой шубе Леви и в моей зеленой оригинальной шапке. Повалился и заснул.
На другой день, с помощью д-ра Штрауха, я отыскал себе комнату с маленькою прихожею, вверху, в 3-м этаже, в доме Варварина, у Казанского собора. Помещение было довольно порядочное, но вход с улицы отвратительный: лестница узкая, грязная, залитая замерзлыми помоями и ночью темная.
Министр Уваров принял меня утром одного у себя в кабинете и не заставил долго ждать. Он был уж совершенно одет, за исключением фрака, вместо которого был надет шелковый халат. Время моего представления министру совпадало с двумя событиями, составлявшими предмет разговоров и сплетен в Петербурге.
В это время был при смерти болен Шереметев и по рукам ходили стихи Пушкина; читая их, всякий узнавал в умирающем Лукулле Шереметева, а в жадном наследнике, крадущем дрова и накладывающем печати на наследство,- С. С. Уварова.
(Имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина "На выздоровление Лукулла" ("Ты угасал, богач младой", 1835; напечатано в журнале "Московский наблюдатель", сентябрь 1835 г.). Написано по поводу болезни одного из богатейших людей того времени, графа Д. Н. Шереметева (1803-1871), тогда еще бездетного. Огромное наследство его должно было перейти к С. С. Уварову, который приходился ему родственником по своей жене. "Пьеса наделала много шуму в городе. Все узнают в ней, как нельзя лучше, Уварова... Весь город занят "выздоровлением Лукулла". Враги Уварова читают пьесу с восхищением... Государь... приказал сделать [Пушкину] строгий выговор" (А. В. Никитенко, т. I, стр. 271, Запись 17 и 20 января 1836 г.). Ср. запись А. С. Пушкина в дневнике за февраль 1835 г. ("Уваров... крал казенные дрова").
Второе же событие составляло появление Уварова в доме Фан дер Флита и основанная на этих посещениях связь с красавицею-дочерью. Может быть поэтому, а может быть и напрасно, мне показался министр чем-то озабоченным и как бы рассеянным.
По крайней мере, речи его, обращенные ко мне, были несвязны. Не сказав мне ни полслова о том, почему я, воспитанник Московского университета, объявивший, по его же требованию, о своем желании иметь профессуру в Москве, остался за штатом,- министр начал хвалить меня, говоря, что слышал обо мне с разных сторон хорошие отзывы. Почему же бы, казалось, ему нельзя было несколько повременить и не отдавать мне назначенного места другому? Потом Уваров начал бранить студентов Дерптского университета и превозносить профессоров.
Впоследствии я узнал причину и порицания, и похвалы. Уваров, поступив на место кн. Ливена, отправился едва ли не прежде всего в Дерпт, прикинулся другом немцев, говорил, что и университет, и старая библиотека, и все в Дерпте напоминают ему то незабвенное время, когда он штудировал классиков в Геттингенском университете. Вероятно, восхищению его не было бы конца, и он с ним так и уехал бы в С.-Петербург, если бы не приключился ночью того же дня студенческий скандал, впрочем, весьма невинного содержания.
Уваров остановился в квартире, назначенной для попечителя (которого еще тогда не было), на рынке. Ночью не спалось министру, и на рассвете, услышав шум на улице, он вышел на балкон. В то время проходили по рынку несколько подгулявших на коммерше (Пирушке.) студентов, и двое из них, увидевши стоящего на балконе господина в ночной одежде с лорнетом в руке, вынули ключи от дверей своих квартир, навели их и стали смотреть на балкон через кольцо ключа, заменив им лорнет. Это ужасно не понравилось Уварову, полагавшему, что его приезд и расточаемые им похвалы должны были привлечь к нему все сердца Dorpatenser'oв. (Обитателей Дерпта.)
Вот и причина, почему Уварову не нравились именно студенты.
А теперь вот и причина, почему он так возлюбил профессоров.
Этот рассказ сообщил мне впоследствии (в 1838 г.) Мойер.
Астроном Струве, знаменитый не по одним своим наблюдениям и открытиям в области астрономии, но и своими необыкновенно чуткими житейскими способностями, хлопотал в начале министерства Уварова об обсерватории в Пулкове. Надо было, во что бы то ни стало, расположить Уварова в свою пользу.
Струве воспользовался для этого приездом министра в Дерпт. Уваров посетил утром, по приглашению Струве, дерптскую обсерваторию. Главным делом был, конечно, знаменитый в то время рефрактор дерптской обсерватории.
- К сожалению,- говорит ему Струве,- все это время стоит погода плохая, и потому я не осмелился утруждать вас посмотреть в наш рефрактор ночью; теперь же взглянуть в него можно разве только для того, чтобы составить себе понятие о чрезвычайной чувствительности инструмента к малейшему движению.
Уваров остановился и смотрит.
- Позвольте, однакоже,- говорит он,- я что-то вижу; мне кажется, звезду.
- Не может быть, Hohe Excellenz! (Ваше высокопревосходительство) восклицает Струве.
- Да, вот посмотрите сами,- возражает Уваров. Струве, в свою очередь, смотрит, молчит, еще смотрит, и, приняв изумленный и восторженный вид, громко взывает:
- Позвольте принести вам мое поздравление, Hohe Excellenz: вы сделали открытие. Необыкновенно, непостижимо, как это случилось, что вам суждено было увидеть в первый раз одну из неизвестных еще неподвижных звезд; отныне она будет включена в список новооткрытых неподвижных звезд.
И в этот же вечер, в собрании профессоров на ученом вечере, куда был приглашен и министр, Струве читал о новооткрытой его высокопревосходительством неподвижной новой звезде.
Не знаю только, окрестил ли ее Струве именем Уварова, как окрещен этим именем один минерал (уваровик), или новая звезда осталась безымянною. Уваров, конечно, был на седьмом небе и не воображал, да и не хотел воображать, что он вовсе не был случайным открывателем, а звезда была уже прежде подмечена тонким дипломатическим гением Струве.
После разных прелюдий о необходимости исправления нравственного быта дерптских студентов, оказавшихся в последнее время образцами нравственности для других русских студентов,- Уваров, ни с того, ни с сего, обращается ко мне с следующей напутственной речью:
- Знайте, молодой человек, при вступлении вашем на новое поприще, что министр народного просвещения в России - не я, не Серг. Сем. Уваров, а император Николай Павлович. Знайте это и помните. До свидания!
Вот тебе на! Не он, а государь - министр народного просвещения! Что бы это значило? К чему это он мне такую штуку всучил?
Однакоже, сидеть сложа руки в С.-Петербурге скучно, а придется не мало сидеть у моря и ждать погоды,- и я отправляюсь посещать петербургские госпитали.
Всего более я слыхал об Обуховской больнице.
Беру ваньку и еду туда.
Вдруг, проезжая по Сенной площади, чувствую, что кто-то меня хватил преисправно кулаком по голове, то-есть по моей шаровидной зеленой шапке a la Rust. Я был закутан в поднятый воротник енотовой шубы Леви. Невольно вскрикиваю и оглядываюсь: вижу уже вдали бегущего по тротуару мастерового парня в затрепанном халате и без шапки. На бегу,- я видел,- он, подпрыгивая, делал разные трели ногами и задевал прохожих.
Что же - спрашиваю себя - заставило этого сорванца ударить по голове, и довольно внушительно, проезжего незнакомца?
А то же самое, я полагаю, что заставило некогда баронета Виллье погладить ладонью лоснившуюся на солнце и кругло выпяченную плешь д-ра, статского советника Леви. Внешний вид, круглость, цвет, блеск и т. п. привлекли и обратили на себя глаз баронета, а от глаза непроизвольно и бессознательно перешло рефлективное движение и на руку. А так как "рукам воли не давай", "oculis, non manious" (глазами, а не руками) Лодера и "руки прочь" Гладстона были неизвестными для баронета правилами нравственного кодекса, то рука, побуждаемая рефлексом, и дотронулась до соблазнительной плеши.