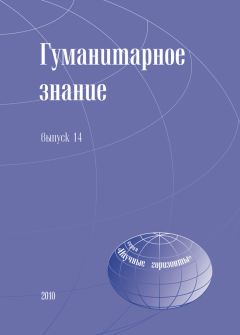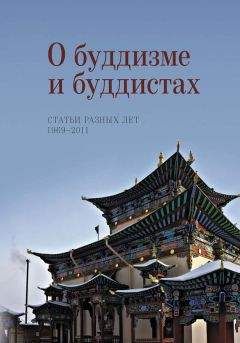Дэвид Гриффитс - Екатерина II и ее мир: Статьи разных лет
И если сторонников раннего развития капитализма тревожило то, что их позицию подрывало предположение о двух вариантах капитализма, их должна была напугать еще больше возможная альтернатива существующей схеме «феодализм — капитализм». В передовой статье в сборнике по вопросам теории докапиталистических обществ Л.B. Данилова, одна из авторов коллективного доклада, представленного на симпозиуме 1965 года, объявила, что марксистские стандартные пять стадий исторического развития — всего лишь «схема», разработанная в конце 20-х и начале 30-х годов в борьбе с троцкизмом, по-видимому под давлением сталинизма. Схема была выведена на опыте Западной Европы советскими учеными, еще прискорбно мало знакомыми с Марксом{543}. Пришло время ученым пересмотреть всю «концепцию», учтя при этом предисловие Маркса к его «К критике политической экономии».
Хранители ортодоксии и слышать не хотели о пересмотре марксизма. Что касалось Заозерской, то, согласно ее точке зрения, пятичленная схема Маркса не была формулировкой сталинской эпохи, она явилась продуктом развития марксистской мысли в 1840-е годы{544}. Заозерская уже высказывала на симпозиуме 1965 года подозрение, что авторы основного доклада пытаются снова ввести в советскую историографию «крепостническую» формацию для описания России XVII и XVIII веков. Такая формация уже предлагалась в конце 1920-х годов Сергеем Митрофановичем Дубровским в качестве альтернативы торговому капитализму, но была быстро отвергнута. Присутствие на симпозиуме Дубровского, наводившее на мысль о том, что и он заметил «второе рождение» своей формации, естественно, обеспокоило Заозерскую и ее коллег{545}.[189] Более того, на симпозиуме, да и после него, раздавались голоса тех, кто явно пытался протащить в советскую историографию «азиатский способ производства» в качестве отдельной формации и даже отнести ее к России периода раннего Нового времени{546}. Естественно, дебаты конца 60-х и начала 70-х годов о природе российского абсолютизма грозили поднять этот вопрос{547}. Дискуссия о природе российской мануфактуры была терпима и даже желательна, как и спор о датировке перехода от феодализма к капитализму в России. Такие дебаты уже проходили без происшествий в 40-е и 50-е годы. Но предположить, что последовательность «феодализм — капитализм» может оказаться неприменимой к России, или даже то, что применима она только в ограниченной степени, означало возобновление дискуссий начала 30-х, а это определенно уже нельзя было более терпеть.
В политических кругах были явно те, кто также считал недопустимой такую дискуссию. Существующих документов недостаточно для того, чтобы установить, в какой именно момент сомнение в применимости пятичленной схемы вторично стало неприемлемым. Кроме того, постороннему трудно точно оценить степень прямого политического вмешательства в самый разгар спора. Тем не менее, несмотря на все оговорки, можно с уверенностью предположить, что политическое вмешательство происходило в начале 70-х годов и что его кульминацией стало совещание в марте 1973 года[190], на котором ведущих представителей исторической науки призвали каждого в своей области восстановить ленинские нормы{548}. Как следствие, Павел Васильевич Волобуев был снят с поста директора Института истории СССР[191] и исключен из редакционной коллегии «Истории СССР». Остальных тоже ждала неизбежная расплата. Тех, кто остался, Л.B. Черепнин, незадолго до этого назначенный директором сектора истории СССР периода феодализма, предупредил: «Вольное обращение с теорией формаций вряд ли принесет пользу науке»{549}. Поскольку это предупреждение появилось в журнале «Коммунист», теоретическом органе Центрального комитета коммунистической партии, его можно считать официальным.
* * *Сейчас происходящее на сцене советской историографии гораздо менее интересно, чем полтора десятилетия назад. К моменту выхода этого предисловия уже нет в живых таких исследователей, как Струмилин, Рубинштейн, Устюгов, Яцунский, А.М. Сахаров, Заозерская, Троицкий, Черепнин и, вероятно, других. Павленко, больше не связанный с Институтом истории[192], направил свою огромную творческую энергию на изучение биографий Петра Великого и Меншикова. Его союзники вернулись в свои первоначальные сферы специализации, почти полностью уступив поле деятельности протеже Устюгова: Индовой, Преображенскому, Тихонову и их последователям, которые, в свою очередь, стали учить аспирантов отыскивать зачатки капитализма в промышленности XVII века. Правда, они согласились с утверждением своих оппонентов, что капиталистический уклад возник только в середине XVIII века. Но они настаивают на зарождении капитализма в середине XVII века и проводят скрытые или явные параллели с тенденциями на западе Европы. С другой стороны, адепты позднего развития капитализма ставят знак равенства между истоками капитализма и капиталистическим укладом, относя большинство возникших в XVII веке мануфактур к категории простой кооперации, а те, что возникли в первой половине XVIII века, — к чему-то близкому к крепостной мануфактуре. Возможно, это покажется мелочью, но символичной, если учесть важность спора об истоках российского капитализма.
Некоторые отзвуки былых дискуссий о мануфактуре еще слышны и сейчас{550}. Но они — всего лишь слабое эхо споров начала 30-х и конца 60-х годов; и в основном споры эти сводятся к тому, назвать ли мануфактуру феодальной или капиталистической в контексте перехода от феодализма к капитализму. Интересно, как скоро вопрос, сформулированный Юрием Федоровичем Самариным в прошлом веке и возникающий через равные интервалы времени с тех пор, — составляет ли разницу между Россией и Западной Европой только «степень развитости» или же само «содержание» цивилизации — будет поставлен снова?{551}
Часть 4.
ЕКАТЕРИНА II И ЕВРОПА
Был ли у Екатерины II «греческий проект»?
Был ли у Екатерины II и в самом деле «греческий проект»? А точнее, правда ли, что она всерьез намеревалась изгнать турок из Европы и распределить принадлежавшую им территорию между восстановленной Греческой империей со столицей в Константинополе, королевством-сателлитом Дакией, состоящим из Молдавии, Валахии и Бессарабии, и самой Российской империей? Основатели диалектического материализма высказывались по этому поводу вполне определенно. Какова бы ни была ценность их высказываний, и Маркс и Энгельс резко критиковали внешнюю политику России во второй половине XVIII столетия. Говоря словами Маркса, «Екатерина II убедила Австрию и призвала Францию к участию в предлагаемом расчленении Турции и учреждению в Константинополе Греческой империи под властью своего внука, получившего подобающее этой цели воспитание и даже имя [Константин]»{552}. Не менее категоричен и Энгельс: «Царьград в качестве третьей российской столицы, наряду с Москвой и Петербургом, — это означало бы, однако, не только духовное господство над восточнохристианским миром, это было бы также решающим этапом к установлению господства над Европой»{553}. Захват Константинополя, заключал он, составлял суть внешней политики Екатерины.
Подобные ясные и недвусмысленные утверждения создателей философской системы, в рамках которой полагалось работать советским исследователям, ставили последних в затруднительное положение. Ведь если они примут эту отрицательную оценку имперской российской политики на веру, они, сами того не желая, подольют масла в огонь тех представителей Запада, кто порицает советскую внешнюю политику как логическое продолжение экспансионизма, свойственного уже имперской России. Как хорошо известно советским историкам, антисоветские идеологи вполне способны нападать на советскую науку, используя в качестве оружия слова Маркса. С другой стороны, проигнорировав мнение основоположников по данному вопросу, советский историк фактически отвергнет справедливость вполне конкретного obiter dictum[193] и тем самым поставит под сомнение универсальность исторического анализа, проведенного Марксом и Энгельсом. Таким образом, советские исследователи, ограниченные жестко определенной идеологической схемой, оказываются заложниками характерной для Восточной Европы дилеммы: следует ли им пригвоздить к позорному столбу внешнюю политику непосредственного предшественника советского государства? Или отвергнуть существенное историческое наблюдение своих духовных наставников? Если сформулировать проблему в более общем виде, то выбирать им приходится между марксистским интернационализмом и русско-советским национализмом. Способ решения этой проблемы, предложенный советскими историками поучителен для понимания приоритетов если не всего научного сообщества, то как минимум советской исторической науки.