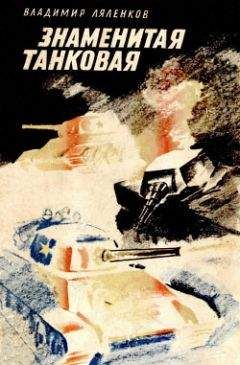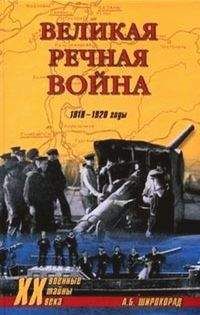Александр Костин - Слово о полку Игореве – подделка тысячелетия
В первой главе нашего исследования предложена и обоснована версия об истинной цели похода князя Игоря в Половецкую Степь, как всего лишь начальной стадии грандиозного замысла Великого князя Киевского Святослава по возвращению Южных земель, ранее принадлежавших княжествам Киевской Руси. Задача оказалась невыполненной по причинам, изложенным выше. Лишь после присоединения Крымского ханства к России через 600 лет в 1783 году удалось окончательно «загородить Полю ворота». И вина, а вернее беда, в том, что план сорвался, лежала не на одном только Игоре, и это прекрасно понимал князь Святослав, «простивший» ему и срыв операции, и позор половецкого плена.
Почему так легко был прощен князь Игорь, совершивший тяжкий проступок? Вина его столь значительна, что не было бы ничего удивительного, если бы черниговский и киевский князья просто не пожелали бы не только принять беглеца, но и видеть его перед своими очами. «Известно, что девятью годами раньше князь Давыд Ростиславич за проступок куда более мягкий (он не успел вовремя вступить в бой с половцами, из-за чего пострадало шесть русских пограничных поселений), не только был наказан сам, но и навлек гнев на всех Ростиславичей, от которых Святослав потребовал отказа от княжения. И было не только сурово сказано, но и сделано: за провинность младшего брата Давыда великий князь Киевский Роман Ростиславич вынужден был в 1176 году покинуть престол! Князь Игорь своим якобы бездумным проступком в конечном итоге навлек страшное бедствие на Русь, но тот же суровый и неподкупный Святослав совсем иначе к нему отнесся, даже «рад был ему», а значит, не просто выслушал, но и пир в его честь дал!»[366]
Б. А. Рыбаков, касаясь этого факта, считает лишь, что автор «Слова» явно симпатизировал Игорю и всячески пытался смягчить его вину. Но ведь это факт не только литературный, но и исторический, отраженный в летописях, и значит вывод из него следует делать более существенный. Игорь был личностью явно незаурядной, князем, который был нужен Руси, которым Русь дорожила!
Но ведь гибель значительной части войска и пленение 5 тысяч воинов, за которых был нужен громадный выкуп, тоже не повод для веселья. А вот здесь как раз и зарыта собака! Да, много погибло воинов, почитай весь полк Рыльского князя Святослава Ольговича, и сам он не то погиб в бою, не то умер в плену, будучи тяжело раненым. Но куда подевался 5-тысячный контингент пленных русичей? Почему об этом молчит летописец? Откуда узнал В. Н. Татищев о сумме выкупа за пленных? Похоже, он располагал на этот счет летописным свидетельством, не дошедшим до нас. Если ему известна была сумма выкупа, то это еще не означает, что около трех тонн серебра было собрано и отправлено в обмен на пленных. Обмен на пленных, обмен пленными – вот оно ключевое слово! Игорь потому организовывал процедуру пленения своих воинов, спасая их от поголовного истребления, поскольку знал, что в княжествах Киевской Руси томятся около 7 тысяч половецких войск, среди которых находятся близкие родственники половецких ханов Кончака и Гзака. Не бежал Игорь из плена, пробираясь на Родину «аки тать в нощи», свой позор он сумел искупить, организовав обмен пленными, в результате на Родину вернулись все плененные русичи, безоружные, истощенные, но живые! Вот она, всеобщая радость и «градам» и «странам». По определению историков и лингвистов «гради» – это отдельные районы Киева («город Владимира» на Старокиевской горе, «Нижний город», «город Ярослава», «город Изяслава» на Михайловской горе, укрепленные, огороженные посады Шелковица, Копырев конец, а также монастырь), все они входили во владения Святослава и все они радовались возвращению пленников. Соправитель Святослава князь Рюрик владел периферийной частью княжества: ему принадлежали «страны», то есть веси, или села и деревни по нынешним временам, Киевской области, которые тоже радовались и веселились.
Любознательный читатель:
– Позвольте, а как же быть с побегом, так красочно описанном в «Слове», со всеми этими охотничьими трофеями, «гусями» и «лебедями», коих «избивал» Игорь к «завтроку и обѣду и ужинѣ».
– Вот именно, «красочно описанный» виртуальный побег князя Игоря из плена – это всего лишь поэтическая аллегория, не описывать же автору повести рутинную процедуру обмена военнопленными.
Нам остается только одно – назвать имя автора этой «жемчужины мировой поэзии», вернее, имя Анонима, написавшего «старыми словесы» повесть о походе в Половецкую степь князя Игоря Святославича, внука Ольгова. Задача чрезвычайной важности, как пишет в заключении своей статьи Борис Дедюхин, по какой-то причине не упомянутый в Энциклопедии «Слова о полку Игореве»: «Поколения ученых вот уже <более двухсот лет> пытаются раскрыть тайны древнего текста: «Слово» прочитано, переведено, прокомментировано, осмыслено. Но все равно еще остается «конгломерат загадок», среди которых есть одна серьезности чрезвычайной – личность автора, «тягостная безымянность», как выразился академик Б. А. Рыбаков»[367].
Глава V
Троян-Триумвир – Коллективный автор «Слова о полку Игореве»
Боянѣ бо Вѣщий, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется мыслию по древу, сѣрымъ вълком по земли, шизымъ орломъ подъ облакы.
«Слово о полку Игореве»Своеобразным «темным местом» «Слова о полку Игореве» является сама история загадочного появления памятника из 600-летнего небытия и не менее загадочного исчезновения его в пламени Отечественной войны 1812 года. Более двухсот лет, ровно столько, сколько разгадываются тайны содержательной части «Слова», не дает покоя исследователям история появления и исчезновения протографа памятника. Вопросы к первоиздателям «Слова» по поводу таинственного приобретения рукописи, хранившейся в Спасо-Ярославском монастыре, появились практически одновременно с публикацией Игоревой песни, или, как она была названа первоиздателями, «Ироической песни о походе на половцев удельного князя Новгорода-Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком на исходе XII столетия, с переложением на употребляемое ныне наречие». Несмотря на то что в подготовке к изданию и к самому изданию привлекалось довольно значительное число лиц, так называемых «самовидцев» «Слова», никакой информации о подробностях «находки» повести долгое время не появлялось, хотя многие стремились получить от них и прежде всего от самого А. И. Мусина-Пушкина хотя бы какие-то сведения об обстоятельствах приобретения и подготовки рукописи к печати. Наиболее дотошным «нарушителем спокойствия», которое хранил граф А. И. Мусин-Пушкин, оказался совсем молодой исследователь памятников древнерусской письменности К. Ф. Калайдович, с краткой биографией которого читатель познакомился в одной из предыдущих глав нашего исследования.
В 1813 году, тогда еще совсем молодой палеограф, которому шел 21-й год, обратился с письмом к графу, в котором, в частности, писал:
«Я желал бы знать о всех подробностях несравненной песни Игоревой. На чем, как и когда она писана? Где найдена? Кто был участником в издании? Сколько экземпляров напечатано? Также и о первых ее переводах, о коих я слышал от А. Ф. Малиновского». Но в ответах Мусина-Пушкина многое было неясно. А вот об обстоятельствах и времени приобретения сборника со «Словом» он вообще предпочел умолчать.
Все это не могло не вызывать недоумения современников. В 1814 году, например, известный библиограф В. Г. Анастасевич сетовал: «Здесь главнейшее упущено со стороны М/усина/-Пушкина, что он не объяснил, от кого и как ему досталось, каким почерком написана, которого следовало бы хоть образчик выгравировать, как весьма хорошо теперь обыкновенно поступают в Европе»[368].
Все эти вопросы остались без ответа и по сей день, по поводу чего академик Б. А. Рыбаков с горечью сетовал, так как с гибелью архетипа «Слова» навсегда отпала возможность сличить печатный текст с рукописью: «всех исследователей стал интересовать внешний вид погибшей рукописи: ее формат, количество листов, соотношения с первым типографским изданием 1800 года». За этим умолчанием графа Мусина-Пушкина угадывалась некая тайна, которую тщетно пыталось раскрыть не одно поколение исследователей.
Однако К. Ф. Калайдович не унимался, поскольку его решительно не удовлетворил ответ графа о том, что он не может назвать своих сотрудников по созданию «Слова» на том основании, что не имеет от них на то согласия, а также другие уклончивые ответы графа. В течение нескольких лет Калайдович буквально штурмовал графа своими письмамивопросами и, похоже, добился некоторых вразумительных ответов, о чем образованная публика узнала лишь после публикации в 1824 году биографии А. И. Мусина-Пушкина, составленной Калайдовичем[369]. Сразу же после смерти графа в 1817 году в статье, посвященной памяти усопшего, Калайдович писал: «…у архимандрита Спасо-Ярославского монастыря Иоиля купил он все русские книги, в том числе драгоценное «Слово о полку Игореве». А в «биографии» приводятся уже слова самого графа: «До обращения Спасо-Ярославского монастыря в Архиерейский дом, управлял оным архимандрит Иоиль, муж с просвещением и любитель словесности; по уничтожении штата, остался он в том монастыре на обещании до смерти своей. В последние года находился он в недостатке, а по тому случаю комиссионер мой купил у него все русские книги, в числе коих в одной под № 323, под названием Хронограф, в конце найдено «Слово о полку Игореве». По вопросу на чем, как и когда писана Песнь Игорева граф отвечал: «Писана на лощеной бумаге в конце летописи довольно чистым письмом. По почерку письма и по бумаге должно отнести оную переписку к концу XIV или к началу XV века». На вопросы о прежних переводах и кто был участником издания, ответ следующий: «Во время службы моей в С-Петербурге несколько лет занимался я разбором и переложением оныя Пѣсни на нынешний язык, которая в подлиннике хотя довольно ясным характером была писана, но разобрать ее было весьма трудно; потому что не было ни правописания, ни строчных знаков, ни разделения слов, в числе коих множество находилось неизвестных и вышедших из употребления; прежде всего должно было ее разделить на периоды и потом добираться до смысла; что крайне затрудняло, и хотя все было разобрано; но я не быв переложением моим доволен, выдать оную в печать не решился <…>. По переезде же моем в Москву, увидел я у А. Ф. Малиновского, к удивлению моему, перевод мой очень в неисправной переписке, и по убедительному совету его и друга моего Н. Н. Б<антыша>-Каменского, решился обще с ними сверить преложение с подлинником и, исправя с общего совета, что следовало, отдал в печать»[370].