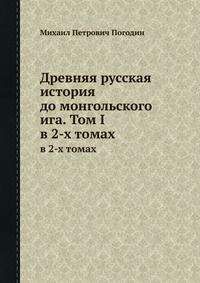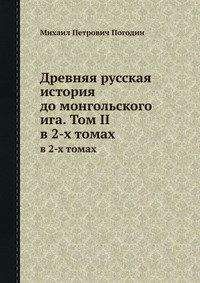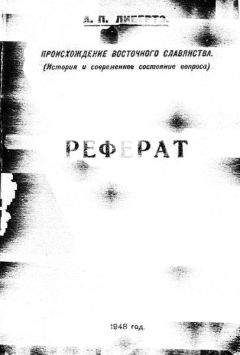Наталия Ильина - Дороги и судьбы
Меня обходили сторонкой, и никто не пытался заговорить со мной. И я сидела в этом дымном и чадном, набитом людьми помещении в одиночестве, как если бы вокруг моего столика был очерчен магический круг, через который и самые пьяные переступить не решались, а может быть, сильно пьяных и не было в тот вечер. Их бы я запомнила, а у меня, кроме общей атмосферы этой чайной, в памяти не удержалось ничего, ни одного лица, ни одной фигуры. Отделенная от народа, который "мой и в горе, и в радости", прозрачной, но непробиваемой стеной, я была погружена в себя. Книжку свою так и не вынула, {264} читать не хотелось, да и темно в углу. Плакала. Старалась лишь не всхлипывать громко, а могла бы и громко - голоса, смех, скрипение и выстрелы двери. Слезы капали в чай, мочили хлеб. Боже мой, а надо ли мне было ехать сюда? Зачем я здесь? Что я делаю здесь?
Вот, кажется, именно после этого вечера, после ночи, в течение которой я часто просыпалась, с тоской глядя на смутные очертания чужих ног под моей занавеской, я поведала о тяжестях своего быта Лазарю Ильичу Шулутко. Сидела в его кабинете, печатала на машинке, а он, диктуя, расхаживал взад-вперед, однажды остановился, участливо всмотрелся в мое лицо, спросил: "А живется вам как?" Я рассказала, как мне живется,- рассказ этот, думаю, напоминал старую солдатскую песню: "Очень чижало, ну, а в общем - ничего!" Шулутко вздохнул, головой покачал. Надо искать комнату. А пока вечерами можно пользоваться институтской научной библиотекой и здесь, а не в углу у бабки, проводить вечера. Гардеробщице будет велено давать мне ключ, и тут, в тишине, я смогу и писать, и читать, и возвращаться в жилище свое только на ночь.
В письме от 18 марта я писала матери:
"Встаю в семь. Моюсь, одеваюсь и, захватив бутылку молока, иду в институт. В кабинете физкультуры занимаюсь гимнастикой натощак. Затем иду в библиотеку. Там еще пусто. На подоконнике между рамами лежит мой пакетик масла, там же я и недопитое молоко держу - это мой холодильник. Завтракаю и сажусь за работу. Раз или два в неделю в институте бывают совещания, научные конференции, я записываю выступления, а на следующий день расшифровываю. Потом хожу по нашим профессорам и врачам, они читают и исправляют, если я где наврала. Все вокруг стараются мне помочь. Народ в институте великолепный. Молодые женщины, опытные хирурги, бывшие на фронте, убеленные сединами профессора и чудесная старушка доцент, маленькая, некрасивая, в очках, с такими добрыми и умными глазами. Она работает над докторской диссертацией, проводит утра в библиотеке. Итак, утром расшифровываю. Но бывают утра пустые, все сделано, новых совещаний нет.
Тогда я тренируюсь в стенографии, пишу письма, читаю. В час тридцать обед. Обедаем внизу в большой столовой с огромными окнами и столами, покрытыми клеенками. Сидят врачи в белых халатах и шапочках, я то-{265}же в белом халате. Если нет совещаний, я могу идти домой. Но не иду. Читаю. Иногда немного гуляю. А к четырем-пяти иду в гостиницу "Казань". Вечером, проводив Олега и Виталия в оперу, возвращаюсь в библиотеку, где теперь постоянно живет моя пишущая машинка. Домой ухожу к десяти вечера, когда мои прекрасные хозяйки ложатся спать. У музыкантов бывают свободные вечера, их мы проводим вместе, ходим в кино и уже были раз в здешнем драматическом театре. Жизнь моя скучновата, зато полезна. Много времени для писания, чтения, размышления. Хотела поступить на вечерние курсы марксизма-ленинизма, но не приняли, принимают лишь с осени. Если мне не удастся попасть в филологический вуз, поступлю на курсы. Так что все очень хорошо, милая моя мамочка!"
Мне и в самом, деле было хорошо в этом институте, где все, начиная от директора и кончая гардеробщицей, дружелюбно ко мне относились, старались облегчить мои первые шаги в новой, непривычной жизни... Позже, уже живя в Москве, я несколько раз ездила теплоходом по Волге и, попадая проездом в Казань, мчалась на Большую Галактионовскую. Открывала дверь, меня охватывал особый, присущий лечебным учреждениям запах, сразу вызывая в памяти ту первую трудную зиму, но грусти не будил, напротив, было весело думать, насколько жизнь моя с тех пор изменилась к лучшему... Под белыми шапочками врачей знакомые лица, и все мне рады, все меня помнят, и я бежала на второй этаж, обнималась с секретаршей директора Марьей Борисовной, иногда узнавала, что Шулутко на месте нет, он в отъезде или на совещании ("так будет жалеть, что вас не видел!"), и я знала, что это не из вежливости сказано, он и в самом деле будет жалеть, он был ко мне расположен, как мы всегда бываем, расположены к тем, кому сделали добро. В свои приезды в Москву Лазарь Ильич звонил мне, бывал в гостях. Его уже нет в живых. Столько лет прошло с той казанской зимы, нет в живых, вероятно, уже многих сотрудников этого института, о котором я до конца дней своих сохраню нежную и благодарную память.
Научная библиотека - комната просторная и светлая, три высоких окна. Стены в книжных стеллажах. Справа от входа, спиной к стеллажам сидел старичок библиотекарь. На той же линии у самого окна - столик, отданный в мое распоряжение. Я проводила здесь дни и вечера. {266} Я фактически здесь поселилась. Машинка моя не покидала этот стол, ящики забиты моими бумагами, книгами и даже такими предметами, как мыло, крем, одеколон, полотенце. А на подоконнике между рамами красовались бутылка молока, пакетик масла. Окончательно тут прижившись, я стала вывешивать за окно и колбасу, и иные скоропортящиеся продукты. Директор в библиотеке почти не появлялся, нужные ему книги, вероятно, приносили ему в кабинет. Но однажды директор появился: сопровождая гостей из Москвы, которым демонстрировал институт,- водил по палатам, по ординаторским, показывал отделение патофизиологии, помещавшееся в особом домике во дворе. Дошла очередь до научной библиотеки. Прекрасное помещение! Светло, чисто, тепло, тихо. Можно проводить часы, трудясь над диссертацией, а можно забежать на минутку, за справкой, библиотекарь отыщет нужную книгу, а забежавший, иногда присев, а иногда на ходу, книгу перелистает, найдет что надо, убежит...
С вежливостью, ему свойственной, директор представил гостям библиотекаря, представил меня (наша стенографистка!), и тут взгляд его, внимательный, хозяйский, желавший убедиться, что краснеть перед гостями за беспорядок в помещении не придется, остановился на окне. Бутылка молока. Рядом пакетик. На веревке, прикрепленной к форточке, еще пакетик, слегка колеблемый мартовским ветром. Вполне естественно, даже мило, эдак заботливо для тех времен, когда холодильники еще не стали предметом привычного домашнего обихода и за всеми окнами жилых помещений непременно что-то висело. Но в библиотеке! Да еще научной! Глазами директора я оценила все неприличие этой бутылки, этих пакетов, собственным телом заслонить бы окно от взоров гостей (они, на мое счастье, увлеклись беседой с библиотекарем!), но я приросла к полу, двинуться не могла и, вероятно, сильно покраснела. По моим заграничным понятиям, человека, спутавшего деловое помещение с жилым, следовало либо уволить, либо, в лучшем случае, прочитать ему строгую нотацию на тему о том, что всему свое место. Я воображала такие язвительные слова: "А раскладушку свою вы еще сюда не принесли?" Никакой нотации, никаких упреков не последовало и позже. А в тот день директор, кинув взгляд на окно и все поняв, сразу отвернулся, подошел к гостям, заговорил с ними, увел их... Как же я была ему благодарна за это! {267}
В библиотеке ежеутренне проводили несколько часов доцент Наталья Алексеевна Герасимова. Та самая, о которой я писала матери: "Некрасивая старушка с добрыми и умными глазами". Полагаю, что "старушке" было тогда немногим больше пятидесяти. Понятия о старости смещаются, в двадцать лет для нас стары сорокалетние, в тридцать - пятидесятилетние. Герасимова трудилась над диссертацией, прилежно исписывая страницу за страницей. Невысокая, с крупной не по росту головой, с крупными чертами лица, будто вылепленного наспех, небрежно, кое-как, она ходила вперевалку и напоминала мне медвежонка... Я стучала на машинке, расшифровывая очередную стенограмму, в медицине была невежественна до изумления, даже слово "травма" узнала тогда впервые! Расшифровка терминов то и дело ставила меня в тупик, я обращалась к Герасимовой, частенько этим злоупотребляла, но никогда ни в тоне голоса ее, ни в лице не проскальзывало и намека на раздражение. А я, ставя себя сегодня на ее место, раздражалась бы. Дескать, мало того, что эта чертова стенографистка стучит под ухом на машинке, нет, ей еще поминутно помогай, подсказывай, бросай ради нее свою работу, едва вникнешь, как умоляющий голос: "Наталья Алексеевна! Извините, но я..." И перебита мысль. Погружайся потом вновь. Так бы, конечно, думала я, человек раздражительный, плохо выносящий помехи в работе. Что думала Герасимова не знаю. Она сдвигала на лоб очки, с секунду глядела невидяще, мысли еще там, в работе, но вот ее маленькие глаза прояснялись, видели меня, идущую к ее столу, и она улыбалась доброй своей улыбкой. "Давайте, давайте, что у вас?" Я вообще не помню, чтобы эта женщина на кого-то сердилась, повышала голос. Такая тихая, скромная, вежливая, мухи не обидит, а дело свое, видимо, знала прекрасно, не помню, каков был ее медицинский профиль, но помню, что в институте ее очень уважали, очень с нею считались.