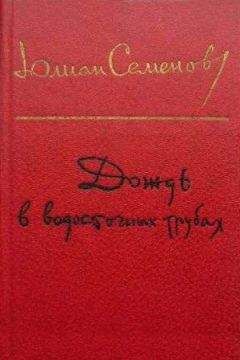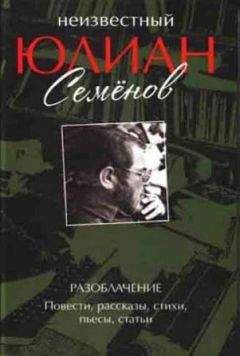Юлиан Семенов - Пересечения
- О чем ты?
- Помнишь, ты про грузин рассказывал, которые дружат?
- А как же.
- Так вот, не мог Серго прожить двадцать шесть лет.
- Почему?
- А спать-то он должен был? Во сне ведь нельзя дружить!
- Можно, сын. Если ты ложишься спать, зная, что есть у тебя
друзья, то и во сне ты будешь с ними и проснешься счастливым.
Санька ужасно тосковал, когда видел, что в команде что-то не складывалось; Митя Степанов не любил Василия Грущина, подтрунивал над ним постоянно, как-то сказал: "Вася, знаешь, на кого ты похож? Ты похож на Мартынова". - "Ничего подобного, - ответил Грущин, - Мартынов крепкий, приземистый, резкий, грубо-лицый, чисто тамбовский тип лица". - "Да я ж не о поэте говорю, усмехнулся Митя, - я о том Мартынове, который Лермонтова убил".
Ответь бы ему Василий что-нибудь резкое, и все бы обошлось, мало ли, неудачная шутка, с кем не случается, но быстро реагировать Грущин не умел; он зато умел тяжело, глубинно обижаться; таил гнев в себе, думал, как отомстить, придумать не мог, оттого злобился, и не только на Степанова, но и на Левона и на Саньку: отчего промолчали? Зачем не ответили?
Он не знал, как Санька, провожая Левона и Степанова в общежитие, корил Митю:
- Разве можно так? Ведь это действительно обидно. Трудно тебе было обернуть все в шутку? Васька знаешь какой ранимый? Придумай что-нибудь, как все это уладить, Митяй, так нельзя, честное слово. Вася даже побледнел, ты не заметил, а у меня все внутри застыло.
- Ты почему его не любишь, Митяй? - спросил тогда Левон. - Может, ты что-то знаешь и не хочешь сказать нам?
- Не люблю - это точно, - согласился Митька. - А почему - не знаю. Чувствую я и ничего с собою не могу поделать, чувствую.
- Ты не прав, Мить, - сказал Писарев. - Это все как-то нехорошо. Ты не прав... Пусть девушки чувствуют, мы, мужики, должны поначалу думать, но перед тем как сказать жестокое - если это правда, - все-таки нужно хотя бы пару раз провести языком по нёбу.
Но Митька, к сожалению, был прав. Он всегда оказывался правым.
Недавно он сказал Писареву: "Знаешь, Сань, литератор, если, конечно, он литератор, а не слагатель слов во фразы, а фраз во книги не про человека, а про то, как лучше модернизировать фабрику или наладить уборку озимых раньше срока, обязательно чувствует все кожей, ладонями, что ли. Меня недавно скрутил радикулит, встать не мог. Кирилл Симонян приезжал, ничего не смог сделать; тогда Саша Горбовский привез Владимира Ивановича, инженера по нефтепроводам. Тот перевернул меня на живот, сказал расслабиться, замер надо мной, и я минут через пять ощутил блоки тепла на позвоночнике, возле копчика. Так было недолго, но мне показалось, что я уснул. Владимир Иванович между тем тронул меня за плечо и сказал: "Вставайте". Я рассердился: "Двинуться не могу, а тут - "вставайте". - "Вы здоровы, встаньте, попробуйте, во всяком случае". И я, несмотря на страх, что снова проколет дикая боль, пошевелился. Боли не было. Я встал. Боли не было. Вышел в комнату, где сидел Вася Романов. Боли не было.
Спросил, можно ли выпить по этому поводу. Владимир Иванович ответил: "Не только можно, но и нужно, тем более что я беру гонорар коньяком". Симонян сказал: "Нельзя пить, снова начнется боль, да и вообще все это похоже на гипноз". - "Гипноз так гипноз, - ответил Владимир Иванович. - Я ведь ничего не прошу, я просто помогаю человеку, чтобы не было боли. Пить можно. Боли не будет". Вася Романов сказал: "Хочу подтверждения эксперимента!" Владимир Иванович ответил: "Пожалуйста. Поднимитесь, отойдите в угол, выставьте перед собою руки и честно отвечайте на мои вопросы". Вася поднялся, отошел в угол; напротив него встал Владимир Иванович, протянул руки и нацелился своими ладонями на Васины. И так они стояли минуту-две. А потом Владимир Иванович спросил: "Что вы ощущаете?" И Вася честно ответил: "Жжение в ладонях". Владимир Иванович обернулся к Симоняну: "Я могу - в вашу честь, как представителя консервативной медицины, - поставить диагноз моему визави?" "Извольте", -хмыкнул Симонян. Владимир Иванович снова вытянул руки перед собою, и навел ладони, словно локаторы, на Васю, и начал медленно водить ими, повторяя очертания контуров Васиного тела. А потом сказал: "Я чувствую металл под ребрами, слева, ниже сердца... Не отвечайте мне пока что, не перебивайте меня... Я ощущаю нечто чужеродное правее печени, в желудке, нет, в кишечнике, слепое утолщение, оно неопасно..." Вася не утерпел, победно глянул на Симоняна и изрек: "Ладонный рентгенолог установил абсолютно точно: правее печени у меня киста, доброкачественная, как говорят консерваторы; под сердцем осколок, удалять опасно, ношу свинец войны с гордостью. Владимир Иванович, я поражен и восхищен. Откройте ваш секрет!" А тот ответил: "Никакого секрета. Просто я настраиваюсь на вас, я ответствен за свое чувствование и, таким образом, за слово". Митя, рассказывая об этом Писареву, был грустен, лоб резала резкая морщина. "Писатель, - повторил он тогда, - если он писатель, обязан чувствовать человека, ситуацию, возможность, грядущее, прошлое. Ладонями. Всей кожей. Мясом, если кожу содрали. До последнего дыхания. И никак иначе".
Степанов почувствовал Василия Грущина первым, хотя тот ценил Митьку, старался, как мог, услужить ему, дважды просил написать сцену к первой самостоятельной постановке, но Митька ему помогать не стал, сидел с Саней, готовили композицию по мотивам "Романтиков" Паустовского. Вообще-то на курсе Василий Грущин был первым поначалу: всем преподавателям импонировала его манера неторопливой раздумчивости; намять у него была феноменальной, мог читать наизусть чуть ли не страницы пьес; великолепно отвечал по всем общественным дисциплинам; на первом семестре сдал за весь институт немецкий и попросил себе факультативный английский: работал в лекторской группе; очень потел, когда выступал на незнакомой аудитории, причем потеть начинал с кончика носа; правда, он ловко придумал себе чисто актерский прием- вроде бы поправлял очки, а на самом деле утирал капельку небрежным жестом левой руки... А Санька еле тянул от сессии к сессии; пропадал со Степановым и Левоном в танцзале "Спорт", единственном тогда в Москве, упоенно танцуя танго "Нинон" со спортивными "чувихами"; после каждого заработка (они калымили втроем на Киевском вокзале ночными грузчиками на товарной станции) принимал участие в "процессах", которые чаще всего происходили в бывшем ресторане "Аврора", что на Петровских линиях; неделями ездил на подмосковных поездах, чтобы записать песни инвалидов, собиравших милостыню.
Василий показал сцену из "Бесприданницы". Он раз двадцать ходил в кинотеатр "Повторного фильма", когда там крутили протазановскую ленту; его актеры абсолютно точно скопировали интонации Кторова и Алисовой, но ведь копия хороша, если только она авторская...
Преподаватели недоуменно переглядывались: Грущин показал ничто, поделку. А Санькиных "Романтиков" приняли "на ура" и предложили обкатать композицию в колхозных аудиториях Подмосковья. Это было прекрасное лето, когда Санька, Митяй, Лена Шубина и Юра Холодов бродяжничали на попутных грузовиках, ночевали в маленьких домиках сельских школ, свернувшись калачиками на полу, а по вечерам давали представление на открытых площадках, и не было в жизни более благодарных зрителей, чем тогдашние беспаспортные, без права выезда в город колхозники, все больше женщины, дети да инвалиды, пятьдесят третий год, восемь лет всего как кончилась война...
А на втором курсе Митяй написал Саньке композицию по "Лейтенанту Шмидту" Пастернака. И Санька, несмотря ни на что, стал сталинским стипендиатом. А Василий показал отрывок из "Далеко от Москвы" Ажаева, и ему поставили тройку. Накануне обсуждения показов Санька утешал Грущина, говорил ему, что хорошее начало, как правило, оборачивается дурным концом. "Ты меня задавишь на третьем курсе; хочешь, следующую постановку сделаем вдвоем?" Василий докурил сигарету, жадно затянулся напоследок и ответил: "Что ж, спасибо, подумаю". Они вошли в зал, и первым на трибуну поднялся Василий.
- Думаю, все согласятся со мною: у нас определился лидер, и этого лидера зовут Александр Писарев. Его постановка, бесспорно, самая интересная, именно потому я и хочу поделиться с вами своей тревогой за будущее нашего товарища, которого все мы успели полюбить за те полтора года, что вместе учимся в стенах нашего замечательного института, ставшего для нас родным домом. Постановка Сани, повторяю, талантлива, но ведь она вся... как бы не обидно выразиться... она вся формальна, в ней налицо рациональность, расчет, в ней нет изначального чувства, все выверено, как в математике... Разве это типично для нашего искусства? И оформление какое-то модерновое, будто не в Москве придумано, а далеко на Западе. А ведь там художнику приходится фиглярничатъ, чтобы заманить зрителя, ошеломить его и на этом сделаться заметным... Разве нам это нужно? Разве наш зритель этого ждет? Когда я смотрел постановку, я забыл о Шмидте, товарищи, я только ждал, чем Саша еще ошеломит нас. Чем? Саня, не сердись, Платон мне друг, но истина дороже! Ведь когда ты показывал свою работу, ты не о лейтенанте Шмидте думал, а о себе как режиссере! Ты стал им - для меня, во всяком случае... Но ты им останешься навсегда и для всех, если будешь сначала думать о герое, а потом уже о себе... Не сердись, Саня...