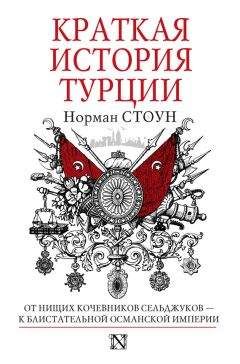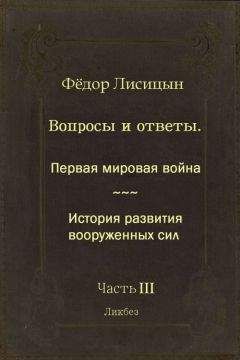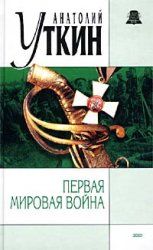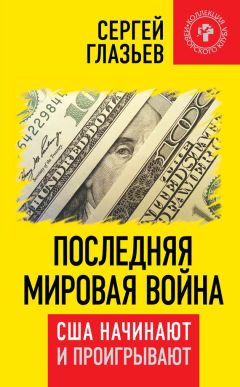Норман Стоун - Первая мировая война. Краткая история
Северная Франция и Бельгия были испещрены крепостями, стратегически стоявшими над реками, служившими естественными препятствиями для любого агрессора. Особенно много их располагалось по берегам протяженной, извилистой франко-германской реки Мёз (Маас); названия крепостей то и дело мелькают в истории войн, начиная со Средних веков: Льеж, Намюр, Мобеж, Динан, Верден, Туль, Антверпен. Они имели мощные укрепления и тысячи пушек. В восьмидесятых годах девятнадцатого века их модернизировали, придерживаясь основополагающего правила: главную цитадель должно окружать кольцо фортов, защищающих крепость от вражеской артиллерии. В девяностых годах пушки стали стрелять дальше, а снаряды потяжелели. Надо было сооружать еще больше фортов и более сложные и мощные укрепления из бетона. К 1914 году состязание в мощности выиграли пушки. Тяжелые гаубицы могли выпускать снаряды на расстоянии десять миль, а крепости превратились в главную мишень и одновременно в западню для своих защитников, которые были в большей безопасности, когда находились в невидимых для противника траншеях, вырытых за стенами фортов. Земля нейтрализует взрывы лучше, чем бетон, даже самый прочный. Не случайно уже в первый год войны, не выдержав штурма, пали все крепости. Льеж, на границе Германии и Бельгии, продержался всего два дня.
Аналогичная, хотя и менее драматичная ситуация сложилась и с кавалерией. Во время Крымской войны бригада легкой кавалерии атаковала русские батареи, но сумела к ним лишь подобраться. В 1914 году и это стало невозможным. Пехотинцы могли поразить из винтовок и всадников, и коней на расстоянии одной мили, а артиллерист — на расстоянии трех миль. Однако на территории, не занятой противником, конница еще приносила пользу. По крайней мере она могла обнаружить вражеские позиции, в этом отношении кавалерия была незаменима. Двигатель внутреннего сгорания был еще несовершенен; почти все из пятидесяти немецких грузовиков поломались в горных Арденнах. Однако лошадям каждый день необходимо давать по десять килограммов фуража, и это ложилось тяжелым бременем на линии обеспечения в ущерб снабжению пехоты. Война на Западе начиналась с сапог, седел и горнов, впереди шли французские драгуны и немецкие уланы. Австро-венгры использовали седла, приспособленные для комфортной верховой езды. В жару эти седла натирали спины бедным животным, реквизированным у крестьян, и драгуны возвращались из первого рейда на территорию русских, ведя коней за узду. Русской кавалерии, прорвавшейся в Восточной Пруссии, пришлось отойти из-за нехватки фуража. Почтенный Хан Нахичеванский, один из доблестных татарских всадников царя[3] (татарскую конницу царь особенно благодарил за подавление революционного мятежа в Одессе в 1905 году), не мог сесть на коня из-за геморроя.
Войны, запомнившиеся европейцам, были непродолжительными — особенно франко-прусская война 1870 года, — и их мало интересовала гражданская война в Америке, которая действительно была долгой и кровопролитной. Поэтому ни одна из держав не боялась атаковать первой. Но начали войну немцы. Они действовали по плану Шлиффена: мощное наступление на Западе через Бельгию. Правое крыло германских войск должно продвигаться на северо-запад от Парижа, в это время французы сосредоточились на своей основательно укрепленной восточной границе и, не исключено, собирались вторгнуться в южную Германию. Французы окажутся в ловушке, рассчитывал Шлиффен, но и предупреждал (в 1905 году): его план осуществим только в том случае, если армия будет значительно больше, чем тогда. В 1914 году Германия выставила миллион семьсот тысяч человек, Франция — два миллиона, добавив к этому числу сто тысяч британцев и бельгийцев. В целом немцы лучше подготовились к войне. Когда проводится всеобщий призыв в армию, то новобранцы проедают и изнашивают основную часть военного бюджета и немного денег остается для обучения профессиональных солдат — сержантов или унтер-офицеров — и приобретения сложной техники. Французы прибегли к всеобщей воинской повинности как средству возбуждения национального патриотизма. Почти половину населения составляли крестьяне, не умевшие правильно говорить по-французски. В армию брали всех, включая монахов.
В Германии больше внимания уделялось обучению и оснащению войск. Немецкие генералы не хотели раздувать их численность и на место офицеров ставить людей, которые «размывали» бы воинские доблести Пруссии. Немцы меньше тратились на рекрутов; у них было втрое больше унтер-офицеров, чем сержантов у французов, и неизмеримо больше, чем в России, где унтер-офицеры немногим отличались от нижних чинов. Французам недоставало тяжелой артиллерии, какая наличествовала в Германии; их тяжелая артиллерия находилась в крепостях. Им недоставало и двух других видов вооружений, имевшихся у немцев. У французов не было легких минометов, способных выбрасывать снаряды по навесной траектории (45 градусов) и таким образом поражать цели за укреплениями и даже в лесу, чего не мог сделать настильный огонь (16 градусов). Французы не имели даже лопаток, называвшихся по-военному шанцевым инструментом. Трудно обнаружить на расстоянии солдата, окопавшегося в земле: он практически неуязвим, опасность грозит ему лишь во время массированного артобстрела. У немцев были лопаты, у французов — нет. Почему? Ответить на этот занимательный вопрос можно, наверное, таким образом. Немцы, готовившие меньше солдат, берегли их и не хотели, чтобы они поддавались панике. Французы, следуя традициям революционных войн, имевших место сто лет назад, шли в бой большими построениями, напоминавшими революционные колонны, и несли даже больше потерь, нежели в линейных порядках восемнадцатого века. Французских солдат по-прежнему одевали в яркие красные и синие цвета, а другие армии давно уже перешли на тусклые тона; даже шотландцы носили килты цвета хаки.
Армии пришли в движение, и первыми начали наступать германские войска. Дабы овладеть Бельгией и ее железными дорогами, они должны были преодолеть крепость Льеж. Седьмого августа они хитростью захватили главную цитадель, а австрийские тяжелые орудия, специально доставленные для этой цели, подавили внешние форты. К 18 августа немцы завершили концентрацию сил и вошли на бельгийские равнины. Они сосредоточили три армии — три четверти миллиона штыков, пятьдесят две дивизии, левый фланг укрепился на фортификациях Лотарингии в районе Меца и Тионвиля. Меньшие силы расположились южнее — вдоль франко-германской границы.
Три германские армии фактически продвигались по незащищенной местности, и они шли быстро — по двадцать миль в день, необычайное достижение. Бельгийцы просто-напросто уходили в две другие крепости — Антверпен на побережье и Намюр. Южнее стояла французская армия (5-я, Шарля Ланрезака). Слева от нее формировались Британские экспедиционные силы, но военных столкновений пока еще не происходило. Французский командующий Жозеф Жоффр не проявлял обеспокоенности, хотя и мог бы принять какие-то меры. Он готовил, как ему казалось, мощное контрнаступление — план XVII, по которому немцев предназначалось оттеснить к Рейну через Эльзас и Лотарингию. Это была катастрофа. Двадцатого августа на линии Моранж — Саарбург французские войска потерпели поражение: взбираясь по склонам, они натолкнулись на сильный пулеметный огонь. Немцы атаковали, и французы потеряли сто пятьдесят орудий и двадцать тысяч человек пленными. Двадцать первого августа Жоффр попытался снова пойти в наступление, на этот раз в Арденнах, холмистом и поросшем лесами районе на северо-востоке Франции и юго-востоке Бельгии. Здесь находился центр германского фронта, и поскольку правый и левый фланги казались неприступными, то Жоффр посчитал его самым слабым местом немцев. И разразилась снова катастрофа. Французы встретились с силой, равной собственной и к тому же дополненной артиллерией, способной вести огонь в лесах, тогда как французские стандартные 75-мм орудия оказались бесполезными в лесистой местности. Дальше к северо-западу армии Ланрезака тоже не везло, и она начала отходить из Намюра. Она оторвалась от британцев, что привело в ярость раздражительного командующего сэра Джона Френча. Двадцать третьего августа правофланговая германская армия (1-я Александра фон Клука) атаковала британцев по линии Монс — канал Конде. Британские регулярные части, делая по винтовочному выстрелу каждые четыре секунды, какое-то время сдерживали превосходящие силы противника, понесшие в три раза больше потерь (британцы потеряли тысячу восемьсот пятьдесят человек). Во второй половине дня прибыли немецкие гаубицы, чтобы разрешить возникшее затруднение, и британцы начали отходить параллельно армии Ланрезака. У французов к концу августа насчитывалось семьдесят пять тысяч убитых, а еще двести тысяч человек были ранены или взяты в плен. Потери немцев были значительно меньше; и они быстро восполнили их войсками, прибывавшими с севера и не встречавшими почти никакого сопротивления. В общем, началось крупномасштабное франко-британское отступление, имевшее целью перегруппировку войск ближе к Парижу.