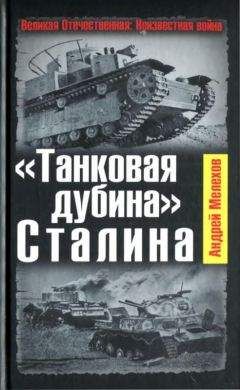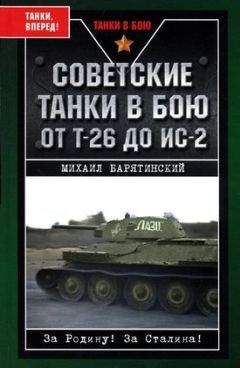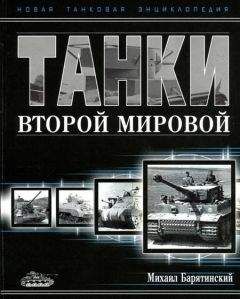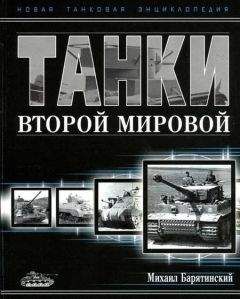Михаил Савинов - 7 тайн Древней Руси. Детектив Временных лет
Так Русь была поставлена в один ряд с великими империями прошлого – Римом и Византией. И уже в XVI веке рассказы о дарах Мономаха появились на страницах летописей. А в следующем, XVII столетии, передача регалий Мономаха на Русь и происхождение Рюрика от Августа широко воспринимались составителями летописей как реальный исторический факт.
В 1620-х гг. в Новгороде родилась новая легендарная повесть – так называемое «Сказание о Словене и Русе». В этой повести история Руси удревнялась примерно на тысячу лет и доводилась до времен Александра Македонского.
Если «Сказание о князьях Владимирских» в чистом виде плод работы книжников, то «Сказание о Словене и Русе» появилось в результате соединения книжных легенд и народных преданий. В этой повести объясняется новгородская топонимика (географические названия). Название свое эта легенда получила по двум ее героям – славянским князьям Словену и Русу.
Словен и Рус (у них были еще три брата, но они в «Сказании» никак себя не проявили) были легендарными вождями древних славян, живших на легендарной Дунайской прародине. Из-за усобиц они покинули берега Дуная и вместе со своими родами отправились на далекий север. Они пришли в район озера Ильмень и здесь основали город Словенск, или Великий Словенск. Великий завоеватель Александр Македонский, не имея возможности покорить русских князей из-за огромного расстояния и труднопроходимой местности, даровал им грамоту на владение всеми землями от Варяжского моря (Балтики) до Хвалимского, т. е. Каспийского. В «Сказании» объясняется топонимика Новгорода и его окрестностей – географические названия производятся от имен родичей Словена и Руса (например, от имени Рус – город Русса, от имени сына Словена – название реки Волхов, которая прежде называлась Мутная, и так далее). Позднее Словенск запустел, и был возобновлен на новом месте, «старейшиной и князем» нового города (Новгорода!) стал уже известный нам Гостомысл. Далее – все, как в «Сказании о князьях Владимирских».
В середине XVII в. история Словена и Руса также начала путешествовать по летописям. Надо отметить, что одной из первых летописей, в которую попала эта легендарная повесть, стал свод, созданный в 1652 г. при кафедре главы Русской церкви патриарха Никона. Так легенда была признана официальной версией русской истории.
Во многих летописях рассказ о Словене, Русе и потомках Августа дополнялся и рассказом о дарах Мономаха, который вставляли в летопись в соответствующем месте – при описании правления князя Владимира Всеволодовича. Так что образованный человек XVII в. мог, обратившись к летописям своего времени, увидеть величественную историю древнего государства, чья первая столица едва ли не древнее Рима…
Но есть среди этих поздних исторических легенд одна особенная. Она породила в науке большие споры, и некоторыми авторами принимается за настоящий исторический источник, поэтому обойти эту легенду вниманием мы, конечно же, не можем.
В строгом смысле это даже не летопись – никаких погодных статей в ней нет.
Появление этой «летописи», которую некоторые ученые считают уникальным и важным источником для реконструкции событий древнейшей русской истории, связано с именем первого русского историка Нового времени – Василия Никитича Татищева, автора обширного труда, известного под названием «История Российская».
В.Н. Татищев при написании «Истории Российской» опирался на множество подлинных рукописей, и ученые приложили немалые усилия для того, чтобы установить, какие именно из источников Татищева сохранились до наших дней. Большинство рукописей определить удалось.
Занимаясь собирательской работой, Татищев обратился за помощью к своему «ближнему свойственнику», Мелхиседеку Борщову (Борсчову), который был в то время архимандритом Бизюкова монастыря. Татищев просил архимандрита Мелхиседека: в случае обнаружения в монастыре каких-нибудь «древних историй» прислать их ему «для просмотрения» – «ибо я ведал, что он в книгах мало знал и меньше охоты к ним имел». И в мае 1748 г. архимандрит Мелхиседек прислал Татищеву письмо с тремя тетрадями, в которых излагалась неизвестная ранее история древнейшей Руси.
В приписке, которой Мелхиседек сопроводил таинственные тетради, было указано, что тетради эти принадлежат некоему монаху Вениамину, который «по многим монастырям и домам ездя, немало книг русских и польских собрал». Архимандрит просил поскорее послать тетради назад.
Текст, который содержался в тетрадях Вениамина, был переписан, по мнению Татищева, в недавнее время («письмо новое, но худое, склад [т. е. язык текста. – М.С .] старый, смешанный с новым, но самой простой, и наречие новогородское»). Татищев выбрал из тетрадей то, чего не было «у Нестора», то есть в «Повести временных лет» и добавил в свою «Историю».
Переписчик тетрадей (монах Вениамин? архимандрит Мелхиседек? сам Татищев?) в начале повествования написал: «О князех русских старобытных Нестор монах не добре сведом бе, что ся деяло у нас в Новеграде, а святитель Иоаким, добре сведомый, написа…» – и далее следовал текст, якобы принадлежащий Иоакиму Корсунянину, первому архиепископу Новгорода, современнику Владимира Святого. Итак, переписчик доставшейся Татищеву «летописи» пытается с помощью записок Иоакима поправить Нестора.
Сразу заметим, что указание на неосведомленность Нестора могло появиться только в то время, когда появилось представление о Несторе как об авторе «Повести временных лет», то есть не ранее середины XVII века – именно тогда появилось вымышленное житие Нестора.
О чем же повествует летопись Иоакима? В начале ее пересказываются легенды о переселении славян с Дуная, упоминается князь Славен, основатель города Славенска (т. е. перед нами явное влияние уже известного нам «Сказания о Словене и Русе»).
Дальним потомком Славена был воинственный князь Буривой, который успешно сражался с варягами, а потом был побежден где-то в Бярмии на реке Кумени. Он устроился в городе Бярмы, который находился на острове и был хорошо укреплен.
...«Людие же терпяху тугу великую от варяг, пославше к Буривою, испросиша у него сына Гостомысла, да княжит в Велице граде. И егда Гостомысл приа власть, абие варяги бывшия овы изби, овы изгна, и дань варягом отрече, и шед на ня, победи… Сеи Гостомысл бе муж елико храбр, толико мудр, всем соседом своим страшный, а людем его любим расправы ради и правосудиа…»
О призвании Рюрика в «Иоакимовской летописи» рассказано примерно так же, как и в других наших исторических легендах. Новшество одно – Рюрик (а за ним отправляются опять же к варягам!) вроде бы внук Гостомысла. Как и его могущественный дед, Рюрик «прилежа о росправе земли и правосудии». Из «летописи» известны и некоторые подробности личной жизни Рюрика – у него было несколько жен, из которых он больше всех любил некую Ефанду, дочь «князя урманского».
Некоторые ученые отождествляют Гостомысла русских источников с князем ободритов по имени Густимусл (имя Гостомысл в немецкой огласовке), который упоминается в некоторых восточнофранкских исторических сочинениях IX–X веков – например, в Ксантенских анналах.
Но не только Гостомыслом знаменита Иоакимовская летопись. Она излагает многие подробности русской истории и более позднего времени – вплоть до крещения Новгорода при Владимире Святом. Подробности эти появляются на тех местах, где «Повесть временных лет» молчит или ограничивается краткими обмолвками. Например, в «Повести» нет никаких подробных описаний в княжении Ярополка Святославича – и такие описания появляются в Иоакимовской летописи: «Ярополк же бе муж кроткий и милостивый ко всем, любляше христиан и асче сам не крстися народа ради, но никому же претяше…» Напротив, те события, которые в «Повести временных лет» описаны достаточно подробно (например, история мести княгини Ольги древлянам), внимания составителя «летописи» не привлекли.
Но посмотрим, что сталось далее с тетрадями Вениамина. Татищев посчитал, что тетради были списаны специально для него (и думаем, что он вполне мог быть прав – они, возможно, были не просто «списаны», но и написаны именно для него!). Он отправил тетради назад и написал письмо в обитель, из которой происходила «летопись», прося прислать книгу-оригинал, но из монастыря пришло лишь сообщение о смерти Мелхиседека Борщова. «Пожитки его разсточены, иные указом от Синода запечатаны», – вот что узнал Татищев о книжных сокровищах Бизюкова монастыря. Не нашли и монаха Вениамина….
Поскольку сама «летопись» дошла до нас только в цитатах Татищева, проверить ее подлинность уже не удастся. Впрочем, нельзя исключать того, что будет найден новый список этой «летописи» или близкой к ней – наши поздние летописи и вообще исторические сочинения изучены еще довольно слабо.
Не вдаваясь в сложные аргументы в пользу подлинности или, наоборот, поддельности Иоакимовской летописи, ограничимся следующими фактами.