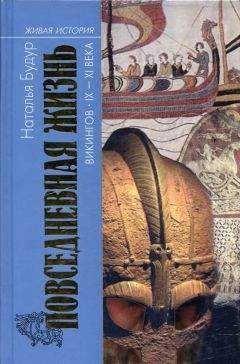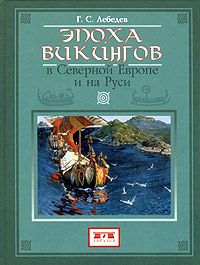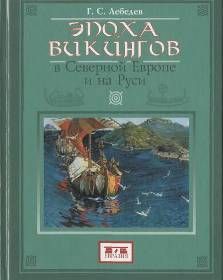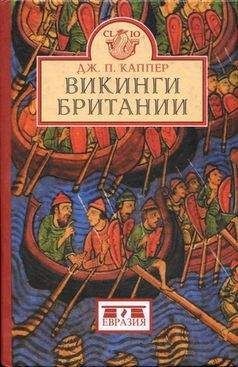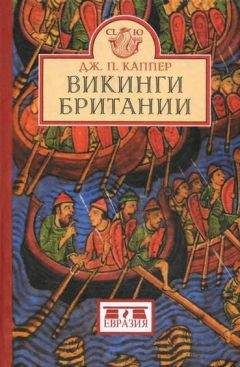Игорь Фроянов - Загадка крещения Руси
Другой, не менее важный вопрос. Все ли так называемые проявления языческого мировоззрения уходят корнями в собственно славянское язычество либо присущи реальному христианству и связаны с заимствованиями, в том числе византийскими? И. Я. Фроянов верно отмечает, что в летописных повествованиях о внешних войнах отразился «языческий по сути взгляд на богов». Но если мы обратимся к христианской традиции, то легко обнаружим там сходные явления, увидев активное участие в земных делах небесных сил{15}. И древнерусские произведения не выбиваются из этого типологического ряда.
Учитывая роль византийской традиции на Руси, можно предполагать, что тот же обычай хранения в церквях «портов» князей, на который обращает внимание И. Я. Фроянов, мог быть связан с византийским обычаем хранения в храмах императорских одежд. Популярность культа Богородицы на Руси могла заключаться также не только в том, что Матерь Божья «отождествлялась с женскими божествами плодородия, в частности с Рожаницами». Богородица была популярна и в Византии, и на Западе. Это может объясняться как преемственностью с языческими культами, так и христианскими представлениями, что сердце Богородицы наиболее отзывчиво к людским страданиям и нуждам, а ее молитвы перед Господом наиболее действенны.
Как бы там ни было, выделение собственно языческих элементов в христианстве — задача весьма сложная. Причина, видимо, заключается в том, что между христианством и развитым язычеством нет непроходимой стены (при всех, конечно, имеющихся серьезных различиях{16}), и оно в разных географических, этнических и культурных условиях своего развития активно впитывало элементы местных, языческих традиций. Эти «заимствования», в том числе и античные, трансформируясь в новой системе духовных ценностей, становились органичным и неотъемлемым элементом христианской традиции. Но даже если они и выходили за рамки последней, то далеко не всегда являлись антихристианскими.
Будучи историком и стремясь к объективности, И. Я. Фроянов дает порой достаточно жесткие оценки деятельности и Русской Церкви, и духовенству. Вместе с тем, по своим убеждениям, мировоззрению и основополагающим принципам он является носителем православных ценностей, человеком православным. Ярким примером подвижничества и благочестия для него стал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), светлой памяти которого он посвятил одну из своих последних книг. Жизнь и творчество владыки, незабываемые минуты личного общения с ним оставили в душе И. Я. Фроянова неизгладимый след, во многом предопределили его современную гражданскую позицию и направленность научной и общественной деятельности. Как и для владыки Иоанна, для И. Я. Фроянова Православная церковь сегодня «осталась последним бастионом нравственного здоровья народа, последним выразителем русского самосознания, не изуродованного идолопоклонничеством перед фальшивыми «общечеловеческими» ценностями», «последняя скрепа, соединяющая русский народ в единое целое»{17}.
Настоящая публикация работы И. Я. Фроянова снабжена приложением, в котором представлены выдержки из древнерусских и зарубежных источников, позволяющие читателю более полно и объективно представить процесс христианизации в домонгольской Руси и религиозные воззрения восточных славян.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Алексеев Ю. Г. За Отечество свое стоятель // Фроянов И. Я. Начала Русской истории. Избранное / Отв. ред. Ю. Г. Алексеев. М., 2001. С. 5.
2 Давня історія Украіни. Т. 3. Слов'яно-руська доба. Киів, 2000. С. 9. Следует отметить, что концептуально позиция И. Я. Фроянова весьма серьезно расходилась с позицией украинских историков. Многие из них вели с ним острую полемику. Поэтому данная объективная оценка его исследовательской деятельности особенно ценна и характеризует научную беспристрастность и принципиальность наших украинских коллег с наилучшей стороны.
3 «Производительные силы, система субъективных (человек) и вещественных (техника) элементов, осуществляющих «обмен веществ» между обществом и природой в процессе общественного производства». См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 535–537.
4 Производственные отношения — не зависящие от сознания людей отношения, складывающиеся между ними в процессе общественного производства, обмена и распределения материальных благ.
5 Как следствие, сложности при втискивании в ее рамки исторических процессов, протекавших за пределами так называемой классической модели, представленной историей нескольких наиболее развитых регионов Европы.
6 Все остальные методологические концепции объявлялись «буржуазными», а следовательно — ненаучными. Весьма болезненно официальная наука относилась и к любым попыткам корректировки пятичленной формационной теории, предпринимаемым в рамках марксистской методологии. Яркий пример — прекращение дискуссий по «азиатскому способу производства», которые возобновятся уже только в 1960-е гг. Это обрекало саму теорию на стагнацию и изоляцию от мировой науки.
7 Избыток продуктов над непосредственными потребностями общин в средствах существования. Иными словами — появляется постоянный запас в виде зерна и скота, который превышал потребности общины в пище и посевном материале.
8 Включают в себя предметы труда (сырье и т. п.) и средства труда (орудия труда, производственные здания, обрабатываемая земля, транспорт, хранилища).
9 В советской историографии доминировала точка зрения, что эпоха развитого феодализма на Руси наступает уже в XI в.
10 Под оставшимся «за пределами нашей историографии» подразумевались так называемые «буржуазные» концепции исторического процесса, в приверженности к которым и обвинялся И. Я. Фроянов.
11 Ситуация порой приобретала комичный характер. В 1986 г. В. Г. Бортневский рассказал автору данных строк историю, непосредственным очевидцем которой являлся. Зайдя как-то в Государственную публичную библиотеку, он увидел за первым столом читального зала одного из наиболее активных оппонентов И. Я. Фроянова. Перед ним лежали монографии И. Я. Фроянова 1974 и 1980 гг. и несколько томов сочинений классиков марксизма, по которым ученый муж скрупулезно сверял цитаты.
12 Особенность ситуации времени написания книги придавало и то обстоятельство, что в 1985 г. в журнале «Вопросы истории» была инициирована дискуссия по проблеме генезиса феодализма на Руси, остриё которой, по первоначальному замыслу, направлялось против концепции И. Я. Фроянова. Открылась дискуссия статьей М. Б. Свердлова, в которой автор, помимо прочего, писал: «Мнение Фроянова о социальном строе Древней Руси возвращает, с некоторыми изменениями, к концепциям Ключевского, Павлова-Сильванского, Сергеевича, Костомарова, Погодина и славянофилов, а также к теориям буржуазной историографии второй половины XIX — начала XX вв., в которых Фроянов видит «историографические и историко-социологические предпосылки» современного исследования городов-государств Киевской Руси. Поэтому вместо форм раннеклассовой борьбы в процессе становления феодального общества X–XII вв. Фроянов видит межплеменную борьбу, столкновения в XI в. «племенной верхушки с демократической частью свободного населения», политические конфликты между князем и вечем, о чем писали историки второй половины XIX — начала XX вв.» (Свердлов М. Б. Современные проблемы изучения генезиса феодализма в Древней Руси // Вопр. истории. 1985. № 11. С. 80–81). В определенных кругах с нетерпением ждали выхода данной статьи, направленной против «непатриотичной концепции Фроянова», которая, как говорилось в приватных беседах, должна была «поставить все на свои места». Однако время для «дискуссии» было выбрано неподходящее. Страна вступала в эпоху «перестройки» и «гласности», и вскоре проблема феодализма стала утрачивать былую злободневность. Обращение к достижениям дореволюционной немарксистской историографии также постепенно перестало рассматриваться в качестве «криминала». Полемика несколько лет велась ни шатко ни валко, дали даже возможность высказаться сторонникам И. Я. Фроянова. Однако ни сам И. Я. Фроянов, ни ряд его наиболее серьезных оппонентов, статьи которых редакция журнала планировала опубликовать в рамках дискуссии, так и не скрестили копья в открытой полемике. Дискуссия незаметно угасла. Ее затуханию способствовала не только изменившаяся конъюктура, но и позиция ряда маститых ученых, которые соглашались включиться в полемику только после выступления в печати своего основного оппонента. Таким образом, никто не хотел уступать.