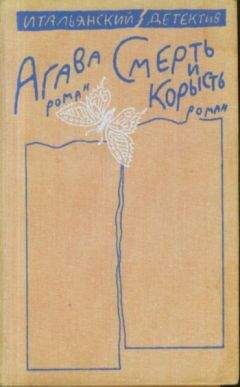Праведник мира. История о тихом подвиге Второй мировой - Греппи Карло
Следы нашего пребывания на этой земле рассеиваются и исчезают — такова судьба. В книге «Конца нет. Сберечь память об Аушвице» (Non c’e una fine. Trasmettere la memoria di Auschwitz) директор музея Аушвиц-Биркенау Петр Цивински пишет о попытке сохранить и показать следующим поколениям место, где «ничто не имеет более разрушительного эффекта, чем ход времени» [1546].
Я спрашивал Цивински, почему все 70 лет после смерти Лоренцо о нем так мало говорилось? Ведь Примо Леви, один из величайших свидетелей XX века, написал о нем сотни строк и десятки страниц, произнес тысячи слов. Мне кажется, общественность уделяла ему так мало внимания, потому что он был бедняком, Такка, простым Лоренцо — а не человеком в вицмундире, дипломатом, промышленником или кем-то еще с достойным положением. Эта история дошла до нас лишь благодаря Леви.
Цивински, прекрасно сознающий важность конкретных действий [1547], мне ответил, что «память немного похожа на нашу историю, она строится на рассказах о персонажах-символах, и в ней обычно не остаются те, кто не достиг воображаемого пантеона». Петр согласился со мной: «Примо Леви правильно поступил, что рассказал историю Лоренцо, сделав ее частью истории Холокоста, которая больше не будет неизвестной, анонимной, забытой». От себя добавлю: Лоренцо достоин войти в пантеон.
Цивински считает, что сотни тысяч людей, депортированных в Аушвиц, обречены на вечную неизвестность: от их историй «остается лишь одна туфля, ключ, ложка или чемодан. Или даже меньше. Иногда только номер транспорта, который привез заключенного». «Память Шоа, — замечает директор музея, — это непрекращающийся крик и в то же время тяжелое молчание. Такой она должна остаться навсегда» [1548].
Человечеству нужны были сотни тысяч Лоренцо, чтобы не допустить ни этого крика, ни этого молчания, — но их не нашлось. Именно поэтому его история, такая искренняя и настолько символичная, должна звучать снова и снова. Это вечное напоминание, которое не должно кануть в Лету.
Я снова думаю о слезах режиссера Антонио Марторелло, увидевшего письма Лоренцо другу Примо. Они были посланы после возвращения домой и внезапно появились из ниоткуда в 2022 году. Мне приходят на ум слова Самуэля Салери: «Лоренцо — это добро, которое существует. Существует, но не побеждает» [1549].
В истории его жизни и смерти скрыто «послание» для всех нас: «Общество, которое не замечает страданий, находится в большой опасности». Это сказал Ян Броккен, когда мы говорили о Лоренцо. А потом добавил: «Спасти одну жизнь равносильно спасению мира» [1550].
Об этом же написал и Давид Гроссман [1551]. Встретив заключенного № 174 517, Лоренцо «увидел в нем человека, не стал сотрудничать с теми, кто хотел лишить его человеческого облика, и таким образом спас ему жизнь, не меньше. Каким простым и великим был его поступок», таким же смелым было и «его героическое восстание против машины уничтожения и унижения». Посмотрев на Леви, «как смотрят на человека», Лоренцо смог переломить «естественный ход вещей в том перевернутом мире, где он находился» [1552].
Чезаре Бермани сказал в один из дней, который мы провели вместе в его огромной библиотеке: «Такие случаи, как этот, меняют историю и то, как мы ее творим» [1553].
Я спросил у Томсона и Энджер, что им запомнилось больше всего, какие впечатления оставил Лоренцо в их сердцах и памяти, — ведь они посвятили творчеству Леви десятилетия. Томсон вернулся к истории Лоренцо в 2022 году по случаю Дня памяти [1554]. Сентиментальная статья «Писатель и каменщик. Как Примо Леви выжил в Аушвице» (Lo scrittore e il muratore. Come Primo Levi sopravvisse ad Auschwitz) вышла в еженедельнике The Tablet [1555]. Автор утверждает, что сегодня некоторые жители Фоссано хотят, чтобы Лоренцо был канонизирован [1556].
Мне Томсон сказал так: «С одной стороны, Лоренцо стал для Леви судьбоносной фигурой — помог ему выжить в лагере, впоследствии свидетельствовать и писать, превратившись в один из краеугольных камней культуры XX века» [1557]. С другой стороны, Лоренцо — яркий представитель того, что англичане называют cultura contadina («крестьянская культура»): с типичным, присущим людям низших классов «взглядом на мир», но с твердой «моралью». Тот, кто ощутил, каково это — быть «последним», поднимается даже в архетипе «крестьянского» мира: почти исчезнувшая [1558] фигура со своими ценностями.
Я вспомнил, что ровно два года назад Лука Бедино, сотрудник исторического архива Фоссано, сказал: доброта Лоренцо была врожденной, не искусственно выработанной — «искренней, спонтанной, молниеносной» [1559]. Бедино пристально следил за моими попытками писать биографию Лоренцо — а это вначале мне самому казалось почти невозможным. Я, конечно же, подумал о доне Ленте — Томсон именно его имел в виду, когда говорил о желающих видеть Лоренцо канонизированным.
В религиозным смысле эта история тоже важна [1560]. Мне кажется, она замыкает жизненный круг muradur: крещеного — но неверующего; соборовавшегося — но панихида была гражданская; прощание прошло в храме (в церкви Сан-Джорджио), а похороны — по светскому обряду. Но от этого сакральный смысл слов его друга Леви [1561], безбожника, как и он сам, в звенящей тишине становится только еще более символичным. Белый свитер, который Леви надел на похороны; скупые слова и слезы — Леви был из «стойких» [1562] мужчин, которые, отвернувшись, не стыдятся заплакать [1563]. Возможно, так Лоренцо снова спас его — уже в последний раз.
Примо редко употреблял слово «святой», чаще настаивая на неоднозначности человеческих поступков [1564]. Среди немногих, кого он называл santo, был Лоренцо. Можно ли сказать, что его история оказалась стержнем рассуждений о каждом из нас? Что фигура Лоренцо безупречна (это слово точно не понравилось бы Леви [1565]) — в противовес «серости», поражающей наши души?
«Возможно, слова значат не так уж и много, но они никуда не деваются, — писала Энджер 20 лет назад в биографии Леви. — Невозможно оживить человека на бумаге, но это единственное место, где он может продолжать жить» [1566]. Достаточно ли этого? Выдержат ли слова испытание временем? Конечно же да.
Поэтому я прошу Энджер, благодаря которой мои изыскания стали возможными, вернуться к «центральному» образу — к тому, кто посвятил жизнь «исследованию человечности» [1567], кто искал ответ, «что есть человек?» [1568]. Энджер подтвердила мое предположение: «Лоренцо — ключевая фигура» в понимании Примо Леви и его произведений.
Как мы знаем, Леви искал «человеческое в обычных людях и нашел у них глубокую человечность». Не многим удалось выйти оттуда, не потеряв себя, — вот что напомнила мне Энджер. Даже смахнув флер легенды, которым друг Примо окутал Лоренцо, можно утверждать: он был именно таким. Биограф подобралась к сути, и я полностью согласен с выводом: отвечая на вопрос всей жизни, именно о Лоренцо Леви говорит: «Это — человек» [1569].