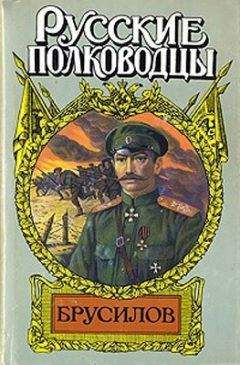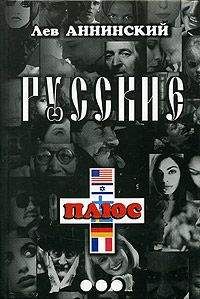Юрий Слёзкин - Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера
Война с этнографией
Культурная революция не ограничивалась распространением культуры среди тех, у кого ее не было. Культуртрегеров тоже следовало очистить от всего устаревшего и немарксистского. Буржуазные этнографы были так же опасны, как нераскаявшиеся кулаки, а ошибки в теории отсталости были так же пагубны, как сама отсталость. С точки зрения партийных директив вред от того и другого был одинаков или, лучше сказать, вредитель в обоих случаях был одним и тем же человеком. «Враг» представлялся чем-то вроде шаманского духа: вездесущим, коварным и многоликим. По словам одного сталинского этнографа,
в ожесточенной предсмертной борьбе классовый враг разнообразит, видоизменяет оттенки, формы борьбы, пускает в ход все средства, мобилизует все силы, от религии до школы, от кабинетного теоретика до жулика или пацифиста, от якобы невинного исследователя до наглого вредителя; от социал-фашиста до открытого бандита-поджигателя… Было бы смешно думать, что вредитель, вооруженный «учеными» очками, менее страшен, чем его соратник, вооруженный газовой или иной смертоносной маской{1002}.
Чтобы отличить друга от врага, нужно было знать разницу между «подлинно научной» и вредной теорией, но в большинстве областей науки прямых указаний со стороны «классиков марксизма» или партийных вождей не существовало. Классики, разумеется, вооружили партийных вождей умением разбираться в «объективных явлениях», и в принципе хранители священного знания могли издавать энциклики по всем вопросам, от педагогики до химии. Но в 1920-е годы они редко этим занимались: то, что казалось старым большевикам политически значимым или социально допустимым, имело свои пределы. Вместо того чтобы все время учить ученых, они полагались на систему социальных льгот при приеме в вузы. Здоровые социальные корни гарантировали здравые теоретические суждения{1003}.
В одном эти надежды оправдались. К началу культурной революции в состав большинства профессиональных сообществ входили молодые ученые, получившие советское образование и готовые перестроить свои научные дисциплины в соответствии с принципами марксизма. Капризно самоуверенные продукты классовых льгот, они были истово преданы партии и идеологии, которые вытащили их из «болота», и питали недоверие и неприязнь к своим «буржуазным» профессорам (а со временем — коллегам), которые были старше, опытнее и образованнее их{1004}. В политическом отношении молодые коммунисты имели очевидные преимущества — или, по крайней мере, лелеяли серьезные надежды на будущее: они применяли официальную идеологию к своим научным дисциплинам и имели все основания утверждать, что любое несогласие с ними равносильно контрреволюции. Но «теоретический фронт» оставался серьезной проблемой. Что такое марксизм в каждом конкретном случае? В литературе и искусстве — это экспериментальный авангард или творчество масс? В философии — «механицизм» или диалектика? В психологии — «материалистический» биологизм или теория социальной среды? В разных профессиональных сферах степень агрессивности марксистов была различной. К 1928 г. российский Союз пролетарских писателей проложил себе дорогу к литературному Олимпу; физиологам, реактологам и рефлексологам почти удалось объявить вне закона субъективную психологию, а историки-марксисты объединились за спиной своего вождя и более или менее мирно сосуществовали со своими немарксистскими коллегами{1005}.
Из всех дисциплин, которые попадали в сферу традиционного марксизма, этнография была наиболее свободна от «большевизаторских»[84] тенденций. Она ассоциировалась с изучением отсталых народов и странных обычаев, а потому не очень привлекала юных коммунистов, которые жаждали «настоящего дела» и идеологических баталий. Более того, хотя патриархи этнографии Штернберг и Богораз не были марксистами, они с трудом укладывались в категорию «буржуазных ученых». Оба они были известными мучениками за дело революции, а Штернберга благосклонно упоминал сам Энгельс. Оба пользовались международным признанием, и оба были известны как «классики российской этнографии».
Определение задач этнографии или этнологии было предметом оживленных дебатов. 1920-е годы стали временем значительного расширения границ этой дисциплины в Западной Европе и Соединенных Штатах. Классический эволюционизм переживал упадок: послевоенный скептицизм породил сомнения в идеях глобального прогресса и духовного единства человечества, а новая волна полевых исследований подтвердила эти сомнения, представив бесчисленные примеры регресса и упрощения. Теории универсального развития вышли из моды, а грандиозные системы Моргана, Тейлора и Спенсера подвергались критике как чересчур абстрактные, предвзятые и вторичные. Предпочтение отдавалось прагматизму и научной строгости, а теории, которые отвечали этим требованиям, обычно занимались миграциями и культурным взаимопроникновением.
Россия 1920-х годов представляла собой плодородную почву для подобных исследований. В СССР процветал культ материализма, естественных наук и «безграничных возможностей» техники. Популярные гуру провозглашали, что все социальные науки можно свести к основным биологическим или механистическим компонентам или усовершенствовать путем внедрения «подлинно научных» методов. Из числа этнографов часто хвалили Боаса за его историзм и сдержанность, но наибольшей популярностью пользовалась немецкая этнология, в особенности Ратцель, Фробениус и ученые школы Kulturkreis во главе со Шмидтом и Гребнером[85]. Богораз писал:
Лет двадцать назад этнография знала лишь два подхода к изучению: или отдельное описание данных племен, или построение широких всемирных обобщений, основанных на материале поверхностном и некритически подобранном. В настоящее время рядом с широкими обобщениями надо строить другие более узкие, охватывающие естественную связь народов и групп, живущих в соседстве, связанных общим происхождением (хотя и не всегда), а более того соединенных в один географический комплекс общими и естественными условиями и общими достижениями культуры, созданной в результате взаимных влияний{1006}.
Богораз разработал — и начал преподавать — дисциплину, которую он назвал этногеографией или «историей культуры как равнодействующей трех факторов: географического, антропологического и экономического». Он рассуждал о распространении культуры в соответствии с законами геометрии, о положительных и отрицательных «переменных токах культуры» и о взаимном «отталкивании» рас{1007}. Для большинства коллег Богораза это было слишком смело, но дух дерзкого экспериментаторства охватил всех. Даже Штернберг, который остался верен классическому эволюционизму, был чрезвычайно заинтригован некоторыми положениями Фрейда и использовал их в своих работах{1008}.
Только марксизма видно не было. В отличие от того, что происходило в других науках, серьезных попыток создать марксистскую этнографию не наблюдалось. В 1924 г. один воинствующий безбожник обвинил этнографов в бесплодном теоретизировании (стандартная формулировка в устах молодых активистов), добавив, что возглавляемый Штернбергом Географический институт «отдает сильным душком старомодного народничества»{1009}. Летом того же года, когда вузы очищали от «социально чуждых элементов», группа радикально настроенных студентов Географического института написала жалобу в Москву и попросила разработать новый учебный план (Штернберг и Богораз в это время находились за границей). Когда после каникул занятия возобновились, Институту пришлось ввести в программу множество марксистских дисциплин и отменить все курсы, не имеющие отношения к гуманитарным наукам{1010}. Ни об «этногеографии», ни о «единой науке о культуре» не могло быть и речи. К концу учебного года институт был включен в состав Ленинградского университета и полностью утратил свою административную автономию. Впрочем, дело создания марксистской этнографии как доктрины и научной школы не очень далеко продвинулось. Профессиональные публикации были свободны от марксизма, а в профессиональных организациях состояло очень мало марксистов. Юные иконоборцы рвались в бой, но в 1928 г. у них не было ни организации, ни теоретической платформы.
Поэтому, когда Сталин объявил, что классовая борьба обостряется и что все ученые-немарксисты находятся по другую сторону баррикады, этнография была атакована с фланга. Во время первой схватки «на историческом фронте» В.Б. Аптекарь, делегат от Российской академии истории материальной культуры, произвел залп по Богоразу и его «скрытой борьбе против марксизма»[86]. Главным преступлением было «отношение ученого мира к яфетической теории И.Я. Марра, которая подвергается самой безобразной, в особенности принимая во внимание условия Советской России, травле»{1011}.