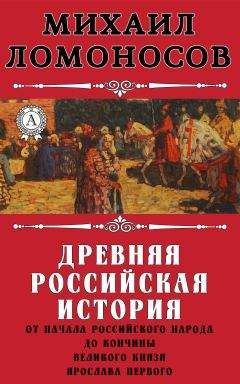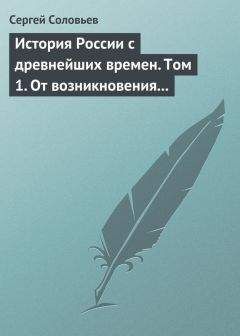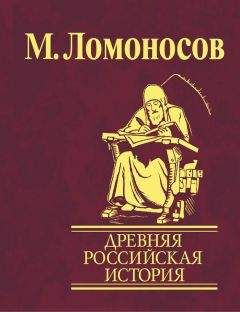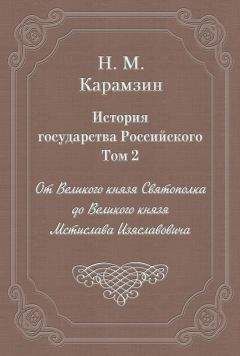Густав Гилберт - Нюрнбергский дневник
Потом она снова заговорила о Геринге:
— Мне так досадно, что я ничего не могу для него сделать. Он был так добр со мной. А сейчас я бессильна что-либо изменить. Меня не хватает даже на то, чтобы достать все то, без чего сейчас нам не обойтись. Он всегда меня ограждал от всех проблем.
Созвонившись с представителями оккупационной администрации, я попытался договориться с ними о том, чтобы фрау Геринг была возвращена одежда, конфискованная при аресте.
Я расстался с ней с ощущением, что оберегаемая Дама Сердца Геринга до сих пор горячо любила своего сиятельного рыцаря, поместившего ее в башню из слоновой кости, чтобы там было удобнее взирать на деяния се героя и чтить его шумную натуру. И даже суровое осознание того, что се герой был в прислужниках у обер-убийцы, не развеяло ее иллюзий относительно своего супруга. Возвращаясь в Нюрнберг, я обдумал способ, каким довести до его понимания настоятельную просьбу его жены покончить с порочной верностью. К тому же мне предстояло убедиться, каково будет воздействие ее пробудившегося материнского и человеческого инстинкта на его средневеково-героические представления.
24 марта. Кодекс чести ГерингаКамера Геринга. Я передал Герингу письмо от его жены и открытку от его ребенка. Он не пожелал читать их в моем присутствии, но поинтересовался у меня, как у них идут дела и что с ними. Я передал ему наш разговор и описал условия, в которых они живут.
— Мы много говорили о вашей верности Гитлеру, о его приказе арестовать и расстрелять вас и вашу семью, включая маленькую Эдду, — сообщил я.
— О, я уже не верю в то, что такой приказ мог исходить от самого Гитлера. Это было делом рук Бормана, этой мерзкой свиньи.
Внезапно лицо Геринга исказила злоба.
— Говорю вам, герр доктор, если бы эта дрянь на пять минут оказалась бы вот в этой камере при запертой двери, то после этого уже не было бы нужды отдавать его под суд, это я вам гарантирую!
Скрипнув зубами, он сжал кулаки.
— Я бы этого подонка удушил голыми руками! И не только за те гадости, которые он делал мне, нет, а за все его вероломные уловки, которые он творил, пользуясь тем, что сумел втереться в доверие фюрера!
И хотя Геринг очень быстро отошел от гнева, я заметил, что во время нашею разговора правая рука его помимо воли оставалась сжатой в кулак целых пять минут.
— Да, вопрос, который задал мне сэр Дэвид, — продолжал он, — это был очень опасный вопрос — самый опасный за весь процесс!
Геринг снова повторил вопрос сэра Дэвида, желает ли Геринг по-прежнему хранить верность убийце, тут же присовокупив и свой ответ на него.
— Знаете, я никогда не прославлял и не осуждал его. Не хочу осуждать его и сейчас.
— Я ожидал этого. Вам никак не хотелось высказать иностранному суду то, что у вас накипело.
— Разумеется, кроме того, мне хотелось показать своему народу пример того, что еще существует такое понятие, как верность.
Вот за это я и ухватился.
— Дело в том, что ваша жена весьма расстроена этой вашей слепой верностью к фюреру, в особенности после всех этих передряг и приказа расстрелять вас. Вот ее слова: «Мне бы хоть раз увидеть его. Хоть на пять минут!»
Геринг очень внимательно смотрел на меня, когда я передавал ему сказанное его супругой, стараясь интонацией передать и ее душевное состояние. Геринг понял, чего я хочу от него.
И отреагировал снисходительной улыбкой — он прощал и понимал меня.
— Да, да, понимаю. Она может влиять на меня в отношении очень многих вещей, но вот что касается моего кодекса чести — тут уж нет. Тут уж меня не поколеблет никто. Я позволял ей распоряжаться в доме, как ей заблагорассудится, я делал для нее все, что она ни пожелала, но если речь заходила о принципиальных для мужчины вещах, тут уж позвольте — женщинам сюда доступ закрыт.
Это и был его ответ на мой вопрос. К средневековой, эгоцентрической системе ценностей Геринга относилось и «рыцарское» восприятие женщины, скрывавшее свои истинные нарциссические цели за фасадом презрительно-покровительственного снисхождения, не позволявшего женской концепции гуманности стать на пути к осуществлению этих целей.
Опершись локтем на койку, Геринг негромко, больше для себя, произнес:
— Нет, моему народу уже приходилось терпеть унижения. Верность и ненависть еще сплотят его. Кто знает, может, как раз в эту минуту рождается тот из плоти и крови, кому суждено сплотить мой народ и отомстить за все унижения, которые мы терпим сейчас!
24 марта. Защита Гесса. Отказ Гесса давать показанияКамера Гесса. Гесс заявил, что решил не давать показания в пользу своей защиты из-за нежелания оказаться в неловком положении, когда он не сумеет дать ответы на поставленные обвинением вопросы. Он заверил, что это целиком и полностью его личное решение, но мне доподлинно известно, что его склонили к этому Геринг и доктор Зейдль.
В ходе непринужденной беседы с Гессом мы вновь коснулись затронутых еще на прошлой неделе вопросов. Он не смог припомнить ни прихода к власти нацистской партии, ни своего полета в Англию, ни психиатрической экспертизы, ни фильмов об ужасах концлагерей, ни даже главных свидетелей, таких, как генерал Лахузен, Олендорф, генерал фон Паулюс. Гесс помнит, что Геринг «о чем-то говорил и говорил — но в данный момент я не могу сказать о чем, хоть убейте».
Я попытался узнать его реакцию на мнение о том, что он симулирует потерю памяти.
— Предположим, кто-то спросит у вас: «Откуда нам знать, а может, вы симулируете потерю памяти?» Что вы в таком случае ответите?
— Симулирую? Тогда я скажу им: «С какой стати мне симулировать?»
Когда я продолжил задавать вопросы на эту же тему, его ответы, мимика, жестикуляция ни в коей мере не говорили за то, что он прекрасно понимал суть проблемы или попытался увильнуть от ее обсуждения.
25 марта. Свидетели ГессаУзнав перед началом процесса об отказе Гесса давать показания и об отсутствии Риббентропа вследствие болезни, Геринг тщеславно заметил:
— Ну не могу же взять на себя защиту всех их; меня лишь на свою хватит. Не могу же я каждому раздать по кусочку своего мужества и энергии — или же дать пинка под зад, чтобы они наконец очухались. Ха-ха-ха!
Бывший адвокат Риббентропа доктор Заутер саркастически заявил Шираху:
— Разве это не странно? Именно в день начала своей защиты Риббентроп вдруг заболевает.[14]
Послеобеденное заседание.
Перекрестный допрос Боле завершился, после чего начался перекрестный допрос единственного оставшегося свидетеля Штрёлина. Послеобеденное заседание ничего нового не внесло.
Тюрьма. ВечерКамера Риббентропа. Риббентроп находился в подавленном состоянии, жаловался на замутненность сознания и паралич воли. Говорил он свободнее, хотя довольно невнятно, как тот, кого ждет виселица и чьи эмоции задавлены продолжительным страхом.
— Да, я понимаю, что этот процесс уже никого не интересует. Расстреляют нас или сошлют куда-нибудь — ни в Америке, ни в Англии или Франции никто и внимания на это не обратит. Может, еще в Германии пару человек и обратят. Я не хотел этого процесса. Просил их не устраивать его. Даже написал Джексону, что готов признать любой приговор американского суда, что я и еще несколько человек готовы взять на себя всю полноту вины, но только не этот процесс, на котором немцы свидетельствуют против немцев. Это некрасиво, поверьте, герр доктор, очень некрасиво.
26 марта. Дискуссии по поводу Версальского договораУтреннее заседание.
Защита Гесса продолжилась зачтением документов. Суд объявил перерыв для совещания по вопросу стоит ли приобщать к делу высказывания относительно Версальского договора.
Обеденный перерыв. Обойдя помещения для приема пищи, я понял, что обсуждение Версальского договора идет полным ходом. Шахт и Папен указывали на то, что Америка так и не ратифицировала Версальский договор, поскольку он представлял собой отрицание 14 пунктов Вильсона. Дёниц в очередной раз решил польстить Биддлу:
— Он очень хорошо во всем разбирается, он — умница. Очень сообразительный.
Шахт повторил свою мысль о том, что если бы не было Версальского договора, не было бы и Гитлера. Йодль высказывал схожие идеи.
— Это был единственный пункт, не вызывавший разногласий у вермахта и нацистской партии. А по остальным они готовы были друг другу глаза выцарапать.
Розенберг вел огонь из своего угла, Кальтенбруннер — из своего.
— Еще бы, — высказывался Розенберг, — конечно, они не желают обсуждения Версальского договора. Даже американцы, и те не подписали его, потому что он был никудышным. Вильсон так вдумчиво проработал свои 14 пунктов. И когда пришло время заключать мирный договор, французы выложили на стол свои тайные договоренности с Польшей и все остальное — мол, они за это сражались, посему тому и быть. А 14 пунктов — в мусорный ящик.