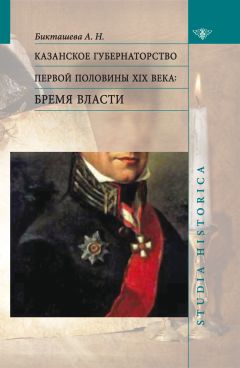Владимир Вальденберг - Древнерусские учения о пределах царской власти
Кроме подлинной соборной грамоты до нас дошло два перевода ее на русский язык; один из них сделан в XVI в., вероятно, вскоре после получения грамоты, а другой – в XVII в. Оба перевода заключают в себе целый ряд неточностей, а местами они прямо неверны. Особенно это надо сказать о переводе XVI в. Знатоки истории греческого и русского языков могли бы решить, следует ли видеть причину этого в недостаточном знакомстве переводчиков с греческим языком, или же перед нами намеренное изменение текста. Но некоторые из отступлений от оригинала настолько бросаются в глаза, что их нельзя не отметить. Патриарх пишет в грамоте, что после совершения венчания «и к нему обратились с просьбой (άπητήθημεν)» увенчать Ивана Грозного; в переводе сказано: «И мы единым образом уложихом благословити его и венчати» [665] . Выходит, что патриарх дает благословение не по просьбе, а по собственному почину. В грамоте, как мы видели, говорится, что патриарх преподает и присуждает Ивану Васильевичу царское достоинство; в переводе вместо этого читаем: «Сего ради… смирение наше умыслих… подавая и утешая нарицаемого царя и господина Иоанна, еже быти и зватися ему царем законно и благочестно венчанному вкупе и от нас и от нашие церкви просвящение (просвещение?) и благословение» [666] . Резкость выражений оригинала здесь значительно смягчена. Оба эти отступления, которые едва ли можно объяснить недостаточным знанием греческого языка, имеют целью провести идею самостоятельности царской власти относительно церкви; это было важно сделать в данный момент, но ничего нового в русскую политическую литературу отступления не внесли. Совершенно другой характер носит третье отступление. В конце грамоты патриарх высказывает мысль, что полезно утвердиться «царю благочестивому и православному, как началу и непоколебимому основанию, которому весь народ и все подвластное ему (σύμπας λαύς χαί τό ύπήχοον) привыкли повиноваться и подражать, по силе, в делании всякого добра». В переводе вместо этого находим целую теорию, не имеющую с подлинником ничего общего: «Яко же и небесные силы и чины един единому повинуетца, такоже и земные князи в послушание бы истинно пребывали» [667] . Различие довольно значительное. На место повиновения народа, упоминание о котором в грамоте не имело никакого особенного значения и выражало самую общую и бесспорную мысль, переводчик поставил повиновение царю князей , что при тогдашних отношениях царя к боярству, имело, несомненно, большое значение. Любопытно сравнить эту мысль с тем, что было выше отмечено в поучении из чина венчания. Там составитель его счел нужным указать царю на необходимость жаловать бояр по их отечеству; но прошло 15 лет [668] , обстоятельства изменились, и явилась надобность выставить учение противоположного содержания. Таким образом, если рассматривать перевод соборной грамоты как самостоятельное литературное произведение, то можно сказать, что он весь проникнут одной вполне определенной идеей самостоятельности царской власти, причем эта самостоятельность понимается в том смысле, что царь не получает своих полномочий ни от какой другой власти, и в том, что ни один класс населения не стоит к нему ни в каких других отношениях, кроме отношения «послушания».
Давно уже было замечено, что царский титул ничего не прибавил к власти великого князя [669] . Эту мысль можно дополнить еще тем, что памятники, относящиеся к принятию титула, не заключают в себе никаких новых идей о пределах царской власти, а выражают только стремление укрепить за царем ту власть, которую он имел и раньше. Только в чине венчания промелькнула новая мысль об отношении царя к боярам; но эта мысль, если даже считать ее современной событию, говорит не о возвышении царской власти, а скорее об ее ограничении.
Стоглав представляет интерес не только для вопроса об отношении царя к делам веры, но также и для характеристики отношения духовных властей к делам государственным. Исследователи еще не могут прийти к соглашению относительно подлинности Стоглава. Одни считают его официальным сборником соборных постановлений, другие думают, что это труд какого-нибудь частного собирателя, не уполномоченного на то собором. Осторожнее будет держаться второго из этих мнений, тем более, что все доказательства, приводившиеся доселе в пользу официальности Стоглава, говорят только то, что собор издал свои постановления в виде цельного уложения, но они не в силах убедить нас, что Стоглав и есть это самое подлинное уложение [670] . С другой стороны, ряд промахов, допущенных составителем Стоглава, не позволяют думать, чтобы собор мог издать свои постановления в таком именно виде [671] . Если же считать его частным собранием, если видеть в нем не официальный документ, а литературное произведение, то все составные части его: речи, вопросы, ответы – получают интерес со стороны заключающихся в них идей совершенно независимо от того, были ли эти идеи действительно высказаны на соборе теми самыми лицами и в том самом виде, как мы это находим в Стоглаве.
Наиболее ярко выражена в Стоглаве идея участия царя в делах церкви. В речи своей к отцам собора царь убеждает их «исправити истинная и непорочная наша християнская вера», а о себе самом он говорит: «Аз же… за веру християнскую и за истинный православный закон… всегда есмь с вами исправляти и утвержати » [672] . В своих заботах о вере царь дает наставление епископам и архимандритам, заседающим на соборе, и обращает их внимание на целый ряд вопросов церковной жизни, подлежащих их обсуждению. Вопросы эти чрезвычайно разнообразны; они касаются иконописания, церковной службы, монастырских порядков, различных ересей, народной нравственности и благочестия, непорядков в церковном суде и многого другого. Это вмешательство царя в область церковных дел отцы собора не только не сочли незаконным, но, наоборот, приветствовали его. Составитель Стоглава говорит, что они, выслушав речь царя «о благочестии слово вознесоша и вседержителю Богу хвалу воздаша, и бе чудно видение и всякого ужаса исполнено толико царствие величество церкви Божии с душевным желанием совокупляется» [673] . Как сказано сейчас, историческая достоверность всего этого не имеет большого значения: может быть, почин созвания собора принадлежал вовсе не царю Ивану Грозному, а, как думают некоторые, митрополиту Макарию, он же, может быть, составил речь от имени царя и вопросы для обсуждения [674] , но важно, что в Стоглаве почин приписан одному царю, и что его деятельность в этом направлении признается входящей в круг его власти. Собор не только на словах одобряет вмешательство царя, но и делом подтверждает свое одобрение. Во многих ответах собора на царские вопросы, касающиеся ересей, суеверий, языческих обычаев, кощунства, преступлений против нравственности, говорится, в каком порядке вести борьбу со всем этим, и везде собор главное или по крайней мере видное место отводит самому царю и тем мерам, которые должны быть приняты по его указу: «благочестивому царю свою царскую учинити заповедь», «царю свою царскую грозу учинити», «по царской заповеди» епископы должны разослать соответственные грамоты и т. п [675] .
Рядом с участием царя в церковных делах видим в Стоглаве и подчинение его церковным постановлениям и даже церковной власти. В своей речи к собору царь выражает твердое намерение держаться в своих действиях «православного закона» и «божественных правил». Предвидя возможность нарушения этих правил, он обращается к отцам с настоятельной просьбой обратить его в таком случае на путь истины: «Вы о сем не умолкните, аще преслушник буду, воспретите ми без всякого страха, да будет жива душа моя и вси под властию нашею» [676] . Весьма понятно, что собор поддержал эту мысль о подчинении царя божественным или церковным правилам. Но он дал ей более конкретное содержание, выставив учение о независимости епископской власти и о неприкосновенности церковного имущества. Оба вопроса рассматриваются в Стоглаве вместе. «Не подобает князем и боляром… священнического и иноческого чина на суд привлачати, ниже таковых судити, да не обладает ими никтоже от простых людей, точию великая соборная церковь обладает ими и судит таковых по закону священных правил… Аще ли кто покусится что взяти от церкви чрез благословение, кроме закона церковного, таковый ничему подобен есть, точию священного крадущи» [677] . Церковь в этом соборном ответе является как самостоятельное учреждение, вполне независимое от государства, имеющее свои законы, свой суд, свою собственность. Епископы, стоящие во главе церкви и творящие суд, имеют самостоятельную власть, недоступную для воздействий со стороны государства. Соборный ответ говорит, собственно, о посягательстве на церковный суд и церковную собственность со стороны князей, бояр и мирских судей, но нет сомнения, что он касается и самого царя, если уже не думать, что он его главным образом и имеет в виду. Это видно из тех ссылок, на которые опирается ответ. Наряду с постановлениями церковных соборов встречаем здесь ссылки на новеллы Юстиниана (среди них – на предисловие к 6-й новелле), грамоту Константина папе Сильвестру, так называемая заповедь царя Мануила Комнина, церковный устав св. Владимира, произведение, известное под заглавием «На обидящих церкви Божия» и др. [678] Во всех этих памятниках о неприкосновенности церковного суда и имущества или говорится в общих выражениях или же прямо, как о посягательствах со стороны царской власти. Хотя таким образом соборный ответ высказывает более частную мысль, чем царская речь, но несомненно, что эта частная мысль представляет только вывод из подразумеваемого общего положения об обязательности для царя божественных правил, в разряд которых с самого начала нашей письменности были отнесены и постановления византийских императоров, касающиеся церкви. Между царской речью и соборным ответом на данный вопрос нет принципиального разногласия.
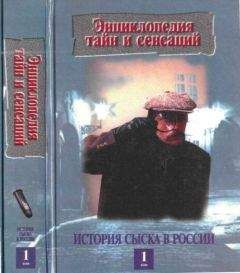
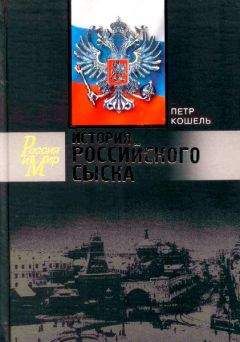
![Дмитрий Бантыш-Каменский - История Малой России, со времен присоединения оной к Российскому государству при царе Алексее Михайловиче. Часть 1 [Издание 4]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)