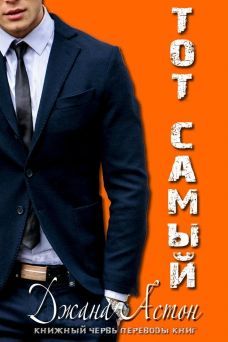Алексей Юрчак - Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение
Поясняя свое отношение к советской реальности, Инна говорит: «Мы просто были вне» и «Мы находились вне какого-либо социального статуса». Хотя это отношение к советской системе отличалось от отношения более включенных в систему комсомольцев, комсоргов и секретарей, оно напоминает чувство отторжения, которое испытывали многие из этих комсомольцев по отношению к тем, кого они воспринимали как «активистов» и «диссидентов» (см. главу 3). Поэтому важно подчеркнуть, что принцип нахождения вне системы (внутри формы авторитетного дискурса, но за пределами его констатирующего смысла) практиковался не только людьми типа Инны или Бродского, но и большинством «комсомольцев», хотя и в разной степени. Принцип существования «вне» стал общим принципом позднесоветской системы, составной частью ее структуры.
Этот тезис можно выразить иначе, если вернуться к вопросу о том, какой дискурс мог восприниматься в советской системе как «дискурс истины». Для ответа на этот вопрос следует развести два отличающихся понятия «истины», доминирующие в разных дискурсивных полях — понятие «ясных истин» доминировало в дискурсе большинства диссидентов-шестидесятников, а понятие «глубокой истины», вышедшее на авансцену в 1970–1980-х годах, доминировало в дискурсе большой части представителей последнего советского поколения. Именно этот последний дискурс, безусловно, воспринимался в последние десятилетия советской системы как «дискурс истины», при этом отнюдь не являясь дискурсом диссидентов, «миметически копирующих доминирующий дискурс партии». Его отношение к дискурсу партии строилось не по принципу противопоставления, а по принципу вненаходимости. Чтобы разобраться в этом принципе, определим понятие «вненаходимость» в нашем контексте.
Автор и герой позднего социализма
Следует подчеркнуть, что Инна и ее круг были в курсе оппозиционного дискурса и не игнорировали его вовсе. Они читали самиздатовскую литературу, включая «Архипелаг Гулаг» Солженицына, однако это чтение было особенным. Оно помогало им выработать понятие «советскости» (включавшее как авторитетный дискурс партии, так и контрдискурс диссидентов), для того чтобы дистанцироваться от этого понятия. Инна говорит: «Мы не считали Солженицына своим. Это было важно… Мы не были противниками системы, как он». По ее словам, оппозиционная литература была важна как позиция, в сравнении с которой можно было определить свою место: «Было важно понять, где мы на самом деле находимся — не относительно власти, а вообще»[115]. Инна относилась к Солженицыну с уважением, но его призывы занять активную моральную позицию по отношению к советской системе казались ей неактуальными[116].
Термин «свой» в этом высказывании («мы не считали Солженицына своим») использован практически в том же смысле, как им пользовались герои предыдущей главы. Вид социальности, к которому отсылает этот термин, формировался не внутри и не в противопоставлении к авторитетному дискурсу, а как реакция на него — то есть этот вид социальности формировался как публика авторитетного дискурса (см. главу 3). Эта реакция на адресованное кому-либо авторитетное высказывание была особой — она состояла не в поддержке или отторжении его буквального смысла, а в перформативном воспроизводстве его формы, но изменении его смысла. Подобные публики своих (глава 3) не ограничивались непосредственным кругом друзей и знакомых. Они могли включать и людей незнакомых, разделяющих определенные интересы, занятия, формы общения и, самое главное, отношение к авторитетному дискурсу по принципу перформативного сдвига. Хотя эти публики были достаточно сплоченными, они не были закрытыми — членство в них было открытым и меняющимся. В этих публиках формировались и нормализовались виды субъектности, социальных отношений и интересов последнего советского поколения. Мы рассмотрели публики своих в главе 3. Однако, чтобы понять природу этих публик в контекстах, не связанных напрямую с идеологическим производством, которые рассматриваются в данной главе, вернемся еще раз к словам Инны: «мы были просто вне», «мы находились вне какого-либо социального статуса» и «мы от них [советских людей] отличались органически», Инна использует предлог «вне» — быть вне, находиться вне — для описания особого состояния субъекта по отношению к политической системе, при котором он продолжает жить внутри системы, но становится для нее как бы невидимым, оказываясь вне ее поля зрения. Это состояние отличается и от поддержки системы, и от сопротивления ей.
Аналогично публикам своих круг Инны тоже формировался как реакция на авторитетный дискурс. Однако, вместо того чтобы напрямую участвовать в воспроизводстве формы авторитетных текстов и ритуалов, как это делали обычные комсомольцы и комсорги, люди, подобные друзьям Инны, активно избегали такого участия. Избегали они даже рассуждений на тему своего неучастия и его причин, считая такие беседы «неинтересными». Неинтересность и существование вне системы являются взаимосвязанными категориями, обозначающими определенное состояние, при котором человек продолжает жить и функционировать в формальных рамках государственной системы, но выключается из большой части его буквальных смыслов (по крайней мере, до возможных пределов).
В принципе, любой человек в определенных контекстах практикует отношение невовлеченности к какой-то внешней символической системе. Например, ему может быть неинтересно — то есть неактуально — выбирать, за кого болеть в футбольном матче между «Ювентусом» и «Аяксом», если он не интересуется футболом, хотя и сталкивается с его трансляциями по телевизору. Но уровень невовлеченности меняется, когда речь идет не об отдельных областях знания и смыслов, а о суверенной системе, субъектом которой является человек. Инне и ее кругу казалось неинтересным и неактуальным отстаивание ясных истин, к которому призывали диссиденты. Вместо стремления «жить по правде», к чему призывал Вацлав Гавел, или «жить не по лжи», к чему призывал Александр Солженицын, они, по словам Инны, «жили легко» и «вели очень веселую жизнь»[117]. Эти выражения говорят не об отсутствии серьезных идей, устремлений или политической ответственности, а о замене политических и социальных ориентиров, выраженных в буквальном смысле авторитетного дискурса, на иные ориентиры, позволявшие вести интересную, насыщенную, творческую жизнь вне этих буквальных смыслов.
В России к наиболее ярким примерам этого образа жизни применяется понятие «внутренней эмиграции»{229}. Эту метафору, однако, не стоит интерпретировать слишком дословно, как полный уход от советской действительности или «советского режима» в автономные, изолированные области свободы и аутентичности. Такая интерпретация «внутренней эмиграции» не описывает реальную ситуацию, в которой существовали эти сообщества, а лишь способствует созданию мифа об их якобы полной независимости от государства. В действительности, конечно, «внутренняя эмиграция» отличалась от собственно эмиграции именно тем, что она могла практиковаться благодаря активному использованию возможностей (финансовых, юридических, технических, идеологических, культурных и так далее), которые обеспечивались самим государством. При этом в сообществах внутренней эмиграции многие культурные параметры и смыслы советского мира смещались и переосмысливались. Метафора внутренней эмиграции совсем неприменима к другим, менее крайним и более распространенным примерам существования вне — когда субъект был активно вовлечен в какую-либо деятельность советской системы и занимался ею с большим интересом, но при этом игнорировал большинство констатирующих смыслов авторитетных высказываний системы (как показывает пример физиков-теоретиков — см. ниже). Несколько примеров такого отношения мы рассмотрим в этой и последующих главах. Для его анализа нам потребуется понятие, которое шире, чем «внутренняя эмиграция», и способно описать образ жизни самых разных публик своих, от тех, которые уходили в глубокую «внутреннюю эмиграцию», до тех, которые были более-менее активно вовлечены в разные практики, смыслы и институты советской системы.
Смысл существования вне системы — одновременно внутри и за пределами — можно проиллюстрировать фразой «вне поля зрения». В ней подразумевается, что какой-то предмет находится здесь, мы знаем о его присутствии, но он скрыт от нашего взгляда (другими объектами, своей миниатюрностью или сфокусированностью нашего внимания на другом). Субъектное состояние вне системы тоже подразумевает выпадание из поля зрения системы или, точнее, ее «режима видимости» (или «режима видимого»). Такой субъект, продолжая существовать внутри системы, может не следовать ее символическим, легальным, языковым или другим параметрам (действовать непонятным для окружающих образом, говорить на непонятном им языке, не вникать в смысл фактов окружающей реальности, интерпретировать происходящее ему одному понятным образом и так далее). Тезис данной главы заключается в том, что в условиях позднего социализма взаимоотношение большинства субъектов и публик с государством строилось, в меньшей или большей степени, именно по этому вне-принципу. Более того, это отношение не ограничивалось неким «альтернативным» способом существования — напротив, это отношение стало центральным принципом существования и воспроизводства всей позднесоветской системы как таковой. Хотя такое отношение субъекта к системе не является отношением сопротивления государству, оно постепенно изменяло систему, делая государство потенциально хрупким и готовым (в определенных условиях) к неожиданному обвалу, поскольку государственно-партийный аппарат не был в состоянии полностью распознать, понять, а значит, и проконтролировать это отношение.