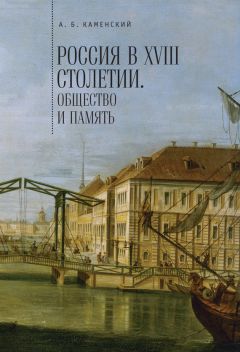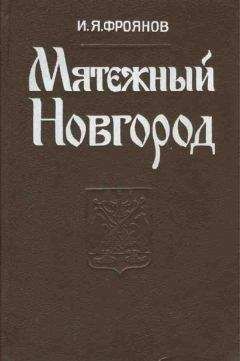Николай Копосов - Хватит убивать кошек!
Я согласен с Филипповым в том, что сегодняшнее состояние историографии неудовлетворительно. Но, чтобы идти дальше, недостаточно все выше подымать планку трудовых затрат. Необходим прежде всего критический анализ тех интеллектуальных тупиков, в которые зашла блистательная глобальная история 1960-х гг., и, возможно, переосмысление места и задач истории в обществе.
17. От социальных наук к свободным искусствам
Мишель Фуко однажды заметил, что со времен Гегеля едва ли не каждый философ склонен считать свое время переломным[306]. Возможно, поколение, пережившее падение коммунизма, имеет для этого больше оснований, чем многие другие. Правда, падение коммунизма затянулось на несколько десятилетий, начиная с волны разочарования, поднятой в 1956 г. секретным докладом Хрущева и подавлением Венгерской революции, и кончая августовским путчем 1991 г. Поэтому оно явилось разделенным опытом нескольких поколений. Однако до распада СССР коммунизм оставался, как бы к нему не относиться, одним из структурообразующих факторов мира, в котором слишком многое самоопределялось по отношению к нему и не было готово к его исчезновению. В 1991 г. точка, структурирующая мир, перестала существовать, и это стало эпохальным разрывом.
Зато в отличие от предшествующих у нашего поколения после падения коммунизма не осталось проекта будущего: демократия, которая была желанным — хотя, казалось, невозможным — будущим, неожиданно стала настоящим, и иного будущего у нас нет. Что касается прошлого, то мы постарались забыть о нем, как если бы мы всегда жили в пространстве демократии — если не физически, то интеллектуально.
Демократическое настоящее охватывает нас со всех сторон, но в отличие от будущего оно не кажется — и не может казаться — совершенным. Оно казалось совершенным (скептики говорили: наименее несовершенным), пока держалось оппозицией с коммунизмом. Коммунизм был устремлен в будущее и увлекал за собой демократию, которая, напротив, свои главные силы черпала в настоящем: она сильна тем, что воплощена в жизнь. Падение коммунизма лишило демократию статуса воплощенного в жизнь проекта будущего, одновременно идеального и реального, и ее краски поблекли. Это характерно не только для России, но и для всего мира. Демократия в этом не виновата, но она не может с этим не считаться.
Итак, мы живем в переломную эпоху, но в отличие от предыдущих переломных эпох смысл нашему времени придает не то, что будет, а то, что есть. Это означает, что речь идет о переломе в структурах сознания: ведь с тех пор, как люди стали мыслить историю в качестве направленного движения, смысл ей придавало будущее. Именно устремленность сознания в будущее породила в XVIII в. стиль мысли, который мы — уже, возможно, ошибочно — склонны считать своим. Наши понятия, в которых мы описываем общество и историю, сложились в это переломное время, время Просвещения и Французской революции. Они оторвались от области опыта и устремились в будущее, что сделало их более общими, более абстрактными, следовательно, более «научными», чем понятия Старого порядка. Словарь современных социальных наук восходит к этой эпохе — не только по своему содержанию, как выражение конкретного социального проекта, но и по своей логической структуре, которая во многом определена идеей прогресса. Именно эта структура сегодня поставлена под сомнение в связи с изменением режима историчности, когда понятия, по своей природе приспособленные к тому, чтобы выражать проект будущего и в свете будущего придавать смысл настоящему, оказались перед необходимостью описывать настоящее, в котором будущее не высвечивает, как прожектором, то немногое главное, в чем видится его предуготовление.
Можно ли жить без проекта будущего? Не означает ли сказанное, что демократия изжила себя и вскоре исчезнет вслед за поверженным врагом? Или она найдет в себе ресурсы для обновления?
Мне кажется, что последняя возможность реальна и ради ее осуществления стоит предпринять усилия. Но для этого нам предстоит научиться жить в бесконечном настоящем, а это значит прежде всего создать такую систему понятий, смысл которым не будет придавать будущее. Тогда, может быть, нам удастся помыслить и будущее — но помыслить уже по-новому. Вовсе не обязательно, что презентизм уничтожает историю: он меняет ее логическую структуру. Он не исключает проект будущего, но побуждает строить его не столько универсально-теоретически, сколько конкретно-прагматически. Коротко говоря, необходимо найти способ развития общества без глобальных катаклизмов, заложенных в столкновении глобальных мыслительных моделей.
2На страницах этой книги неоднократно высказывалась мысль, что сегодня социальные науки переживают кризис, и особо подчеркивался распад системы понятий, присущих проекту социальных наук. Я пытался, в частности, показать, что в результате кризиса характерный для исторических понятий баланс между отсылкой к конкретному опыту и универсальным значением может, вероятно, сместиться в сторону конкретного опыта. Продумывание новой системы исторических понятий, в большей степени основанных на логике имен собственных, но и не разрывающих связей с логикой общих утверждений, мне представляется перспективным направлением работы.
Однако распад основных исторических понятий — лишь одно из измерений кризиса социальных наук. В этой заключительной главе речь пойдет о его другом, педагогическом измерении, точнее, о преломлении в судьбе социальных наук проблем современного университета. Такой подход, возможно, также позволит наметить некоторые пути преодоления кризиса социальных наук.
Между университетом и социальными науками существует самая непосредственная связь. Конечно, такая связь существует и между высшим образованием и современной наукой в целом, однако социальные науки занимают в этой системе особое место. Современный университет формируется в XIX в. как один из важнейших институтов (идеологически, безусловно, важнейший) складывающихся национальных государств. В рамках этих государств, даже если по своей форме многие из них оставались монархиями (обычно уже конституционными), рождается проект и формируются основные институты светского либерально-демократического общества XX в. с присущими ему рыночной экономикой, парламентаризмом, широким участием граждан в политике, массовыми политическими партиями, прессой, идеологиями — и по необходимости с развитой системой демократической аккультурации граждан, центральным элементом которой в условиях торжествующей дехристианизации стала система светского образования. Замковым камнем этой последней был университет. Проект светского демократического общества утверждался как проект, основанный на научном мировоззрении, в отличие от старых монархий, интеллектуальным эквивалентом которых была религиозная картина мира. Университет стал храмом демократии, а наука — ее религией.
Университетская наука и университет как институт представляют собой совершенную форму идеологии прежде всего благодаря концепции единства знания. Наука не столько обосновывала демократию (как раз в этом далеко не все ученые были согласны), сколько, порой против собственной воли, создавала такую картину мира, в рамках которой демократия была наиболее естественным ответом на вопрос об оптимальном общественном устройстве. Однако если естественные науки отвечали за формирование основ современной метафизики, то за научную картину общества — непосредственную основу теории демократии — отвечали социальные науки. Эта картина мира нашла отражение в понятийном аппарате и словаре социальных наук, который стал словарем демократии. Отсюда центральная роль социальных наук как идеологии демократии XX в.
Поэтому неудивительно, что сегодня мы переживаем одновременно кризис демократии, социальных наук и университета[307]. В сущности, это составляющие одного процесса, но у каждой из них имеются свои механизмы, которые важно понимать.
3Университет, как известно, — дитя Средневековья. По сию пору в университетской жизни сохранилось немало традиций, которые мы склонны возводить к Средним векам. Эта видимая преемственность скрывает тот факт, что между двумя периодами расцвета университетов — в XIII–XV и XIX–XX вв. — пролегают столетия упадка и разложения и что современные университеты (перефразируя Марка Блока) гораздо больше похожи на свое время, чем на своих средневековых предшественников. Однако и сохранение старых форм не следует сбрасывать со счета, тем более что рождение новых университетов в XIX в. было сложным процессом, который имел собственную логику и далеко не автоматически преобразовывал в формы внутренней жизни университета импульсы модернизации. В частности, между возникновением современного университета и его превращением в массовый институт демократического общества имелся хронологический зазор.