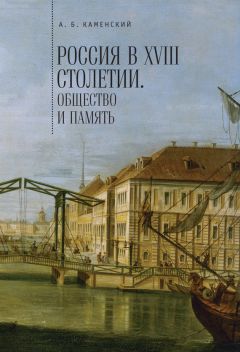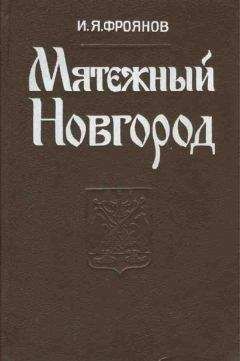Николай Копосов - Хватит убивать кошек!
Вспомним, однако, что, по Филиппову, собственность — это не более чем «исходная категория анализа». Тем не менее модель феодальных производственных отношений не выводится автором из анализа отношений собственности, но строится независимо от него. При этом Филиппов расходится с Марксом, для которого сутью феодального хозяйства оставалась барщинная эксплуатация крестьян. По Филиппову, главное отличие феодального хозяйства от рабовладельческого состоит в следующем: в античности рабовладелец, выступавший организатором производства и, следовательно, распорядителем всего произведенного продукта, оставлял себе весь прибавочный продукт и даже часть необходимого продукта, в то время как в Средние века крестьянин, игравший центральную роль в организации производства (сосредоточенного теперь на крестьянском участке), имел возможность оставлять себе не только необходимый продукт, но и часть прибавочного. Поэтому феодализм и оказался «прогрессивнее» рабовладения.
Для обоснования этой модели нужны, естественно, опоры в материале. Они имеются только частично. Филиппов убедительно показал, что мелкое крестьянское хозяйство было преобладающей в Средиземноморской Франции раннего Средневековья экономической формой. Выглядит правдоподобным (хотя недостаточно подкреплено сравнительным материалом) и утверждение, что «нормальным для феодальной экономики было индивидуальное хозяйствование экономически самостоятельных крестьян» (с. 738), в то время как барщинное хозяйство являлось, скорее, исключением.
Более проблематичен тезис о том, что крестьяне оставляли себе часть произведенного ими прибавочного продукта. Приводимый цифровой материал слишком фрагментарен и не подкрепляет его. Автору приходится оценивать уровень эксплуатации крестьян, «исходя из логики функционирования крестьянского хозяйства и феодальной экономики в целом» (с. 734). Иными словами, в центральном пункте модель обосновывается на самой себе: если бы крестьянин не оставлял себе части прибавочного продукта, то средневековое общество не было бы способно к развитию. А раз оно развивалось, значит, у крестьянина оставались излишки. Рассуждение разумное, но слишком общее и поэтому мало что говорящее нам об уровне эксплуатации именно южно-французских крестьян раннего Средневековья. Для того же, чтобы стать основой модели феодального способа производства, оно должно быть подкреплено данными по другим периодам и регионам, более полными и репрезентативными. Разрыв между отдельными элементами модели средневековой экономики, предлагаемыми Филипповым, и имеющимся в его распоряжении локальным и фрагментарным материалом в данном случае оказывается слишком значительным.
Еще более проблематично объяснение того, почему крестьяне имели возможность оставлять себе часть произведенных излишков. Ответ Филиппова на этот вопрос в состоянии повергнуть в ужас более ортодоксальных марксистов: дело в том, что «общество признавало за крестьянином право на весомую долю прибавочного продукта», поскольку понимало, что доля эта реинвестируется в производство (с. 742). Как следствие «положение южно-французского крестьянства в целом было относительно благополучно», что и объясняет «почти полное отсутствие известий о межклассовых конфликтах» (там же). Нельзя, конечно, с порога отказывать «примитивным обществам» в «спонтанной рациональности», но желательно подкрепить подобный вывод анализом характерных для упомянутого общества представлений о ценности крестьянского труда, взаимных обязанностях общественных групп и т. д. Предлагаемая Филипповым схема не может обойтись без обращения к ментальности, но ментальность остается целиком за рамками его исследования, скованного как марксистской традицией, так и жанровыми особенностями региональной монографии по социально-экономической истории.
Таковы предложенные Филипповым элементы общей теории феодализма. Очевидно, что речь идет именно об отдельных элементах модели, которых — даже если многие из них выглядят вполне убедительно — недостаточно, чтобы организовать слишком фрагментарный материал. Когда же автор отсылает читателя к другим элементам марксистской модели феодализма и, шире, марксистской глобальной истории, то эти отсылки не срабатывают. Отчасти дело в том, что модель феодализма, с которой пытается работать автор, — это очень частичная, «политэкономическая» модель. В особенности это бросается в глаза при анализе того, как Филиппов понимает механизмы исторической каузальности. Вот что он пишет по поводу причин генезиса феодализма:
«Ни кризис III века, окунувший Галлию в пучину гражданских войн и первых варварских вторжений; ни кардинальные реформы Диоклетиана и Константина; ни начавшаяся в то же время массовая христианизация общества; ни агония империи и возникновение на ее территории варварских государств; ни новые волны варварских вторжений… ни междоусобицы меровингских и вестготских правителей… ни колоссальная встряска, вызванная вторжением арабов… ни широкомасштабные… преобразования первых Каролингов… ни приватизация властных функций государственными чиновниками и крупными землевладельцами… ни григорианская реформа… ни первый Крестовый поход… ни эти, ни другие вехи региональной и общеевропейской истории… не были ни главными причинами, ни даже столь уж важными факторами трансформации античного общества в феодальное» (с. 745).
«Бесконечно медленный, подспудный, приземленный» процесс феодализации шел как бы сам собой, повинуясь исключительно своей внутренней логике. Стержнем этого процесса была трансформация античной латифундии в феодальное поместье. Мы имеем дело с теорией, согласно которой существует логика саморазвития хозяйства. Подобная теория нуждается как минимум в четкой модели исторической каузальности. Марксизм такую модель имел, пусть и внутренне противоречивую, поскольку никогда не мог выбрать между развитием производительных сил и классовой борьбой. Ни одно, ни другое объяснение Филиппова не удовлетворяет. Он, по-видимому, склоняется к третьему: через улучшение условий жизни непосредственного производителя. Но, как мы видели, логика объяснения причин такого улучшения ведет за пределы социально-экономической истории. По этому пути автор не может зайти слишком далеко, не отказавшись от своей методологии. Поэтому он и ограничивается невнятными отсылками к идее саморазвития. Марксизм Филиппова — это марксизм, лишенный модели исторической каузальности.
Вот еще один пример. Автор подчеркивает, что трансформация одного общественного строя в другой начинается с изменения представлений о собственности. Так было при переходе от античности к феодализму, когда новые представления о собственности зародились еще в эпоху домината, так было и позднее, при переходе от феодализма к капитализму (с.752). Вполне возможно, что автор прав, но сам себе он при этом, безусловно, противоречит: ведь отношения собственности, по его словам, — это отражение в сознании хозяйственного механизма. Если же зарождение новых представлений о собственности предшествует зарождению нового хозяйственного механизма, то, возможно, решение проблемы феодализма лежит не в плоскости социально-экономической истории, а в плоскости истории ментальностей, а отношения собственности надо анализировать прежде всего в контексте меняющихся идей, а не экономических отношений, и потом уже показывать их влияние на хозяйство.
Подобным путем более тридцати лет назад пошел А. Я. Гуревич[305]. Попытка написать глобальную историю на основе «внутренней психологической связи» социальных явлений дала замечательные результаты, но, как известно, также вызвала разочарование. Сегодня Филиппов не решается вступить на этот путь. Он не пытается связать социально-экономическую историю с глобальной историей на базе истории ментальностей, но не может вполне опереться и на традиционную марксистскую логику построения глобальной истории на базе истории социально-экономической.
Итак, марксистская история — в обломках. Появление высококлассного исследования Филиппова ясно показывает, что внутренние связи той относительно целостной конструкции, которой являлся марксизм, распались и отказываются ожить даже под пером лучших марксистских историков. Книга показывает и то, что, несмотря на определенное внутреннее сродство марксизма и школы «Анналов», их соединение в рамках глобальной истории остается механическим. Сосуществование Блока и Маркса под переплетом «Средиземноморской Франции» не привело к плодотворному диалогу: каждый остался царить в отведенных ему главах… И хорошо, потому что сопоставленные между собой выводы этих глав ослабляют друг друга. Так, в четвертой главе автор объясняет сравнительное благополучие южнофранцузских крестьян природными условиями Средиземноморья (с. 357), но нужно-то ему, чтобы это благополучие было свойством феодализма.