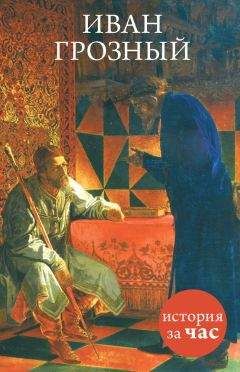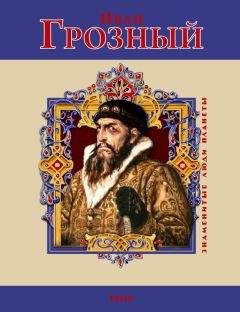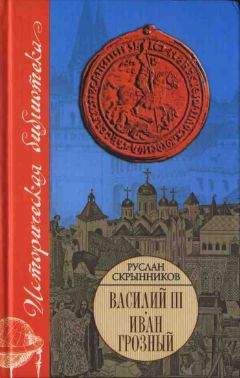Наталья Пронина - Иван Грозный: «мучитель» или мученик?
Вот когда воочию подтвердилась скептическая формулировка Ивана о тщетности и ненадежности власти «многомятежного человеческого хотения»… Года не прошло после избрания на польский престол французского принца, как Речь Посполитая была поставлена перед необходимостью созыва нового избирательного сейма со всеми характерными для него вельможными склоками и публичным торгом, напрочь отвлекающими от решения реальных проблем государства. Как вполне справедливо отмечал еще в XIX столетии историк А. С. Трачевский, государственные вопросы там «запутывались в сетях мелких личных интриг, при которых самые отвратительные преступники выходили сухими из кругом облепившей их грязи. Они обращались благодаря наивной откровенности шляхетской демократии в колоссальный скандал, клеймивший страну позором перед лицом всей Европы».[457]
Во вновь стартовавшей «предвыборной гонке» основное количество голосов разделилось уже между тремя кандидатами: германским императором Максимилианом, русским царем Иваном и семиградским воеводой Стефаном Баторием. Причем последний, с одной стороны, был ставленником Османской империи, с другой, его неусыпно опекал Ватикан, тоже имея свои виды на молодого талантливого полководца из Трансильвании.[458] Таким образом, в борьбе за польский престол сомкнулись интересы двух доселе непримиримо — столетиями!. - враждовавших сил — римско-католической церкви и исламской Турции. Что толкнуло их на такой немыслимый шаг? Что принудило Стамбул забыть многочисленные антиосманские лиги, то и дело сколачивавшиеся римскими папами? А святейших отцов, в свою очередь, забыть море христианской крови, пролитой турецкими янычарами? Забыть и, не мешая друг другу, словно сообща поддержать одного и того же кандидата?..
Вероятно, после разгрома Крымской орды летом 1572 г. и последовавших русских побед в Ливонии, это было не что иное, как страх. Как ясное осознание общей угрозы от крепнущего нового противника (вернее, старого, которого прежде удавалось побеждать, но который теперь все более становился способен победить сам). Этим противником, грозившим сломать все их вековые захватнические планы, для Ватикана и Стамбула была Московская Русь, был ее Грозный царь. Отныне его любыми средствами требовалось остановить. И осуществить сей замысел надлежало новому королю Речи Посполитой. Но об этом чуть позже. А пока…
А пока, вновь оказавшись без монарха и вовсе не ведая о планах, намечавшихся далеко от Варшавы, Кракова и Вильно, литовская и польская шляхта уже помимо официальных обращений сама стала просить царя Ивана занять польский престол. Как свидетельствуют исторические документы, дошло до того, что многие паны откровенно писали Грозному, сколько и кому следует заплатить, какие почести обещать, дабы обеспечить в свою пользу исход голосования, и даже присылали образцы грамот, которые нужно поскорее направить от имени царя участникам избирательного сейма. С такими «рекомендациями» обращались в Москву, например, и минский каштелян Ян Глебович, и примас Яков Уханский, и виленский каштелян граф Ходкевич. Глебович, кстати, обращаясь к Грозному, особо старался отметить, что «ни один (государь) кроме Вашей Царской Милости бусурманской руки и силы стерти не мог бы. Того для сердечно от господа нажидаю, чтобы Ваша Царская Милость нашей земли государем был».[459] Однако, читая все эти многочисленные грамоты, Иван по-прежнему оставался почти безучастным к выборам в Речи Посполитой. По-прежнему слишком мало доверяя «выборному спектаклю», разыгрываемому панами-радой, и не желая тратить огромные деньги для их подкупа, он в ответных посланиях только кратко благодарил обращавшихся к нему шляхтичей, обещая им свою милость. Но с присылкой собственных официальных грамот и официального же представителя на варшавский избирательный сейм — тянул. Порицая эту недостаточную активность Грозного, граф Ходкевич в беседе с русским послом Ельчаниновым в сердцах заметил: царь «точно через пень колоду валит».[460] И хотя по настоятельным советам оного Ходкевича Иван в августе 1575 г. все-таки написал несколько грамот к польско-литовским магнатам, они тоже были весьма сдержанны и скупы. Гораздо более существенными, нежели «обработка» членов сейма, царь считал в это время действия на полях сражений.
Чтобы возможно более полно сосредоточиться именно на этом вопросе, государь в октябре 1575 г. передал часть своих полномочий служилому татарскому хану Симеону Бекбулатовичу, специальным указом назначив его главой боярской Думы, а затем правителем земщины — с титулом «великого князя всея Руси». К сожалению, сей шаг Ивана Грозного, как и его опричнина, шокирует и вызывает у большинства историков острейшие споры. «Каких только предположений (они) не высказывали, пытаясь разгадать это „загадочное“ поставление! — пишет митрополит Иоанн. — Каких только мотивов не приписывали царю! Перебрали все: политическое коварство, придворную интригу, наконец, просто „прихоть тирана“… (Не допустили) лишь одного: что Симеон Бекбулатович действительно управлял земщиной (как, скажем, делал князь-кесарь Ромодановский в отсутствие Петра I)».[461] И это совершенно простое на первый взгляд замечание церковного писателя по сути своей глубоко верно. Вынужденный постоянно, а в тот момент — особенно часто — покидать столицу, уезжая то в Новгород, то непосредственно к войскам в Ливонию, Ивану необходим был такой человек в Москве — для ведения текущих государственных дел. Вспомним: еще двадцать лет назад, уходя в походы на Казань, молодой государь оставлял вместо себя править страной митрополита Макария, наказывая боярам и прочей знати со всеми вопросами обращаться именно к нему. Вот и теперь, желая сконцентрировать все внимание на решении ливонской проблемы, Иван распорядился на время возглавить земщину своему подчиненному — татарскому вельможе Симеону Бекбулатовичу. Но титул царя и высшие прерогативы власти государь всецело оставил за собой. Как только — менее года спустя! — необходимость в «великом князе Симеоне» у Ивана отпала, он немедленно сместил его с этой должности, отправив управлять Тверским княжеством. И это обстоятельство лучше всего подтверждает то, что, назначая нового «великого князя», сам Грозный вовсе не думал отрекаться от престола, как пытаются доказывать некоторые историки. Речь шла о мере сугубо временной и не имеющей никакого отношения к смене правителя, а уж тем более — правящей династии…
Впрочем, упоминая о «воцарении» хана Симеона, Э. Радзинский, прямо игнорируя и исторические факты, и все вышеозначенные мнения, как всегда с «младенчески-невинной» усмешкой на ядовитых устах предлагает читателю совсем другую версию — версию о том, что это было только очередным злобным спектаклем царя-актера. Что это было «политическое шоу, полное смысла. Кланяясь жалкому татарскому хану, — пишет автор, — (Иван) как бы напоминал Руси, кто освободил ее от татарского ига, кто завоевал Казань и Астрахань, кто превратил некогда грозных ханов в жалкое посмешище, предмет для царских игрищ. В следующем году игра наскучила, и царь согнал с трона ничтожного Симеона».
Вряд ли требует комментария, каким неприкрытым презрением полны эти слова. Но презрения уже не только к Ивану, а вместе и к тому человеку, которому государь доверил управление страной. А был этот, как выражается г-н Радзинский, «ничтожный» Симеон Бекбулатович (до принятия крещенияСаин Булат Бекбулатович) родным внуком последнего золотоордынского хана Ахмета. Того самого Ахмета, с коим у родного деда Ивана Грозного — великого князя Ивана III — произошло в 1480 г. знаменитое «стояние на Угре». Стояние завершилось бесславным отступлением и бегством войск Ахмета, которые князь Иван не счел тогда нужным ни атаковать, ни преследовать. А двадцать два года спустя он же принял под свое державное покровительство изгнанных из распавшейся Орды, лишенных отцовского трона сыновей Ахмета… Но подобно тому, как еще в самом начале своих «историко-психологических» заметок наш уважаемый автор, запамятовав, спутал «стояние на Угре» с совершенно иным событием, очень многое забыл он сказать читателю и теперь, вскользь упоминая о «жалком» татарском князе-наместнике…
Сказать, например, о том, что «жалкими» в Москве никогда не считали ни татарских вельмож, ни вообще представителей каких-либо других племен и народностей.[462] Была борьба, было упорное — веками! — стремление отстоять свою землю от захватчиков. Но никогда не было ни ненависти, ни презрения к тем, кто приходил с миром, кто искал помощи и защиты. Это высокое нравственное свойство, этот изначально проводимый московскими князьями принцип этнической терпимости, как определял его известный историк Л. Н. Гумилев, «позволил Москве закрепить лидирующее положение, завоевать доверие, а значит, поддержку не только русских княжеств, но и самых разных народов необъятного Евразийского континента, стать для них центром притяжения. Иван Калита и его последователи стали принимать служилых людей исключительно по деловым качествам, независимо от племенного происхождения, — пишет современный исследователь. — Все они — и голубоглазые славяне, и скуластые выходцы из Орды, и рослые литовцы — на государевой службе были абсолютно равны. У них были одинаковые права и обязанности, равные шансы сделать карьеру и положить начало новому московскому роду».[463]