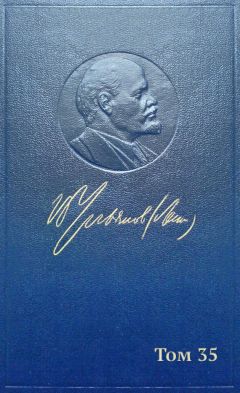Огюстен Кабанес - РЕВОЛЮЦИОННЫЙ НЕВРОЗ
После изгнания со сцены королей и придворных и ее, так сказать, демократизации, слово «камердинер», как придворного происхождения, уже не могло более произноситься с подмостков. Пришлось в «Мизантропе» Мольера внести поправку и, вместо слов: «а камердинер мой заведует газетой», — говорить: «а самый глупый человек заведует газетой», что конечно далеко не лестно для корпорации камердинеров. Но не надо забывать, что революционное равенство уже нивелировало общество, и в принципе, если не на самом деле, класса прислуги тогда не существовало.
Из «Магомета» выбрасываются следующие слова, как раз подходившие к данному времени:
Срази, Великий Бог, всех на земле Ты этой,
Кто радостно на ней кровь ближних проливает…
Впрочем, во время представления пьесы «Кай Гракх», когда один из действующих лиц провозглашает со сцены: «Законов, а не крови!», присутствовавший в театре член Конвента Альбитт закричал в виде протеста: «Нет, крови, — не законов!».
Известный знаток театра Фагэ[357] посвящает этому очищенному, «ad usum delphinorum», театру страницы, полные глубокого интереса. Он приводит, как сообразно требованиям минуты переделывал Мольера цензор-поэт Гойе. Надо признать, что он иногда справлялся с этой дерзкой задачей довольно недурно. Мы ограничимся лишь следующей цитатой.
В сцене портретов, в «Мизантропе», Мольер говорит:
… Рассказчик скучный,
Он никогда из тона барского не выйдет;
В блестящем обществе витает вечно он,
И с языка его — принцессы, герцоги не сходят.
От знати — прямо без ума,
Твердит лишь вечно об охотах,
Об экипажах, лошадях!..
На «ты» со всем он высшим светом,
И слово, просто, «господин»
Услышать от него нельзя!
Цензорская версия гласила следующее:
… Рассказчик скучный,
Он никогда не снидет с высоты;
В блестящем обществе витает вечно он,
И о богатстве лишь своем твердит:
О женщинах, о лошадях, охотах и собаках,
О землях, о домах — один лишь разговор.
Услышать слово «ты» — ему уже обида,
А слова, просто, «гражданин»
Не скажет никогда…
Фагэ замечает, что это, поистине, язык Селимены, превратившейся в «вязальщицу». Во всяком случае, это — ловкая подделка, мирившая уважение к Мольеру с требованиями времени.
Но как бы она ни была удачна, о ней можно только пожалеть, так как она слишком хорошо отражает жалкое состояние умов людей, стоявших у власти. Прибавим, что и знатоки тоже отнеслись к ней неодобрительно. Один из них, например, пишет вполне основательно: «Оставим Мольера так, как он есть, и не будем его уродовать во имя плохо понимаемого патриотизма. Если мы будем так же продолжать, то рискуем его рассердить, и как бы он своим сардоническим стихом не сравнил нас с теми из его персонажей, которые укоряют друг друга за то, что убили блоху с чрезмерным озлоблением!».[358]
Иногда цензура совершенно запрещала представление какой-нибудь пьесы. Можно ли себе представить, что такому остракизму подверглась, между прочим, «Женитьба Фигаро», которую революция, казалось, должна была бы приветствовать как предвозвестницу новых идей! Вот в каких выражениях было составлено Марсельской городской театральной комиссией запрещение бессмертного произведения Бомаршэ:
«Принимая во внимание, что пьеса безнравственна и недостойна внимания республиканцев, что характеры представленных в ней лиц напоминают лишь о горделивых предрассудках, о началах деспотизма и об антисоциальной религии; что в ней превозносятся пороки великих мира и предаются осмеянию суды и должностные лица; принимая, наконец, во внимание, что эта пьеса не может быть представляема иначе, как только в костюмах, ныне воспрещенных, и что этого одного мотива уже достаточно, чтобы сознавать опасность ее публичного представления, не входя в дальнейшие соображения относительно ее безнравственности и несвоевременности… и т. д.».
Вот до каких абсурдов могла доводить неумолимая логика людей, исходивших из справедливой идеи, но неправильно ее толкующих, и вследствие этого уклоняющихся в сторону от здравого смысла, не видя перед собой пропасти, в которую устремляются.
Не служит ли это еще новым подтверждением нашего основного положения, что революционный невроз сопровождается полным и ясно очерченным извращением критического мышления не потому, чтобы при этом ослаблялись умственные способности, которые, наоборот, до известной степени может быть даже обостряются под влиянием возбуждения, вызываемого новым, полным неожиданностей положением, — но потому, что рассудок как бы теряет свою уравновешенность, необходимую для правильного и беспристрастного суждения: начинает смотреть на весь внешний мир как бы через неправильные очки, чрезмерно увеличивающие некоторые предметы и чрезмерно уменьшающие другие. При таких условиях мысль вырабатывается разумом уже не из нормальных элементов, впечатлений и ощущений.
В нашем кратком обзоре цензурных изощрений мы встречаемся именно с характерным проявлением подобной «болезни мышления», доходящей до воспрещения «Женитьбы Фигаро» как антиреволюционной, в то время как такая же, не менее «больная», цензура монархических стран воспрещала ее в качестве чрезмерно вольнодумной.
Нельзя все же в заключение не отметить, что иногда и цензура, хотя правда редко, проявляла признаки здравого смысла.
Мы указывали выше, с какой жадностью публика приветствовала все пьесы, подвергавшие осмеянию все, что касалось религии. Комитет общественного спасения на этот раз, в разрез с народным вкусом, постановил 2 нивоза II-го года следующее решение: «Комитет общественного спасения, в видах противодействия антиреволюционным интригам, направленным к нарушению общественного спокойствия и вызову религиозной вражды; в целях достичь уважения декрета Национального конвента от 16-го фримера, обеспечивающего мирную свободу вероисповеданий, воспрещает оперному и всем прочим театрам публичное представление на сцене пьес под заглавием: „Могила надувал“ и „Храм истины“, а равно и всяких других, преследующих те же тенденции, под страхом наказания, указанного в предыдущем декрете о лицах, злоупотребляющих театром в интересах врагов революции».
Под этим декретом стояли подписи Робеспьера, Барэра, Приёра, Бильо-Варенна, Карно, Линде и Колло д' Эрбуа.
В воспрещенной пьесе представлялась на сцене торжественная обедня с полной обстановкой: алтарем, паникадилом, распятием, чашей, священническими облачениями. Актер, служивший обедню, произносил «Отче наш», а присутствующие делали все возможное, чтобы представить церемонию в смешном виде.[359]
Немного спустя, запретили «Праздник Разума», сочинение Гретри, и «Св. Яичницу», капуцинаду, в которой монахи благословляли народ яичницей.
Как справедливо замечает один из современников, незачем было изображать на сцене и подвергать осмеянию духовенство и религию, так как на самом деле ни того ни другого более уже не существовало.
Таким образом, если цензура нередко и допускала самый бестактный и нелепый произвол, то все же даже и она озарялась изредка лучом здравого смысла.
Факт несомненно настолько редкий, что его стоит отметить на страницах истории.
ГЛАВА III
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОЭЗИЯ
Сущность драматического искусства эпохи революции сводится, как мы видели в предыдущей главе, к почти что ребяческим забавам; в театрах безраздельно царят фарсы и феерии, и нет ничего сколько-нибудь серьезного. Остается познакомиться с современной данному времени поэзией, искусством, отражающим обыкновенно довольно верно характер своей эпохи и умственное состояние общества.
В царствование Великого Короля Людовика XIV-го поэзия была торжественна и выдержана в стиле размеренного александрийского стиха. Позднее, при Людовике XV и маркизе Помпадур, она начинает игриво щебетать, становится легче и доступнее, выносится, так сказать, из дворцов на улицу. С Марией Антуанеттой она впадает в деланный тон притворной чистоты и детской наивности. Наступает торжество барашков, разукрашенных атласными лентами…
Жан-Жак Руссо, своим «Эмилем» вводит моду на сентиментальное настроение, вдохновляющее госпожу Жанлис в ее скучных воспитательных романах и модного Бартелеми с его «Прогулками молодого Анахарзиса».
К этому времени относится расцвет той поэзии, типичным представителем которой являются, например, «Сады» Делиля, бледный сколок с переведенных им же Георгик.[360] Все это, однако, уже предвозвестники революции, пока еще не социальной и не политической, но лишь салонной, — революции вкусов и мод. В обществе начинают оживленно дебатироваться философские темы, вытесняя прежнюю игриво легкомысленную болтовню, род нашего современного флирта. Праздные люди от пустяков обращаются к делу и, наравне с другими, работают над умственным обновлением Франции. Близится время коренного переворота в образе жизни и в нравах…