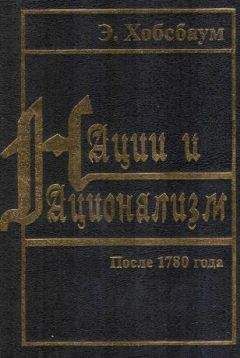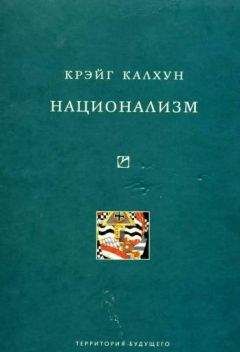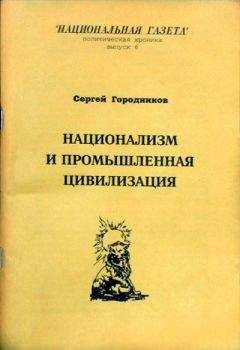Андрей Тесля - Первый русский национализм… и другие
Новгородцев со своей стороны решительно движется в сторону естественного права – если для Петражицкого естественное право оказывается выражением интуитивного права, выражением правовых требований по отношению к законодательству и осмысляется в рамках созданной им дисциплины «правовой политики», то для Новгородцева естественное право выступает метафизическим принципом позитивного права в рамках посткантовской метафизики: «Абсолютный идеал, считал он, не должен быть имманентным, это означало бы обожествление мира и абсолютизацию относительного, но он не должен также быть совершенно потусторонним, – это разрывало бы всякую связь абсолютного с относительным. Правильное решение состоит в понимании этого идеала как трансцендентного и при этом как “регулятивной идеи”, всегда присущей нашей деятельности и придающей ей высшей смысл» (цит. по с. 413).
Если Петражицкий движется в целом в логике позитивизма (в широком смысле слова), а Новгородцев примыкает к посткантовской метафизике и религиозной философии, то Кистяковский стремится обосновать право, оставаясь на позициях философии как науки в ее неокантианском понимании. Валицкий уделяет основное внимание его статье в «Вехах», доказывая неадекватность формулировки общей позиции авторов сборника, данной во вступительной статье Гершензона («теоретическое и практическое первенство духовной жизни над внешними формами общежития»), полагая, что критика авторов «Вех» в адрес русской интеллигенции может быть сведена к трем проблемам: 1) отношение интеллигенции к ценностям культуры, 2) отношение ее к экономическому богатству и производству и 3) отношение интеллигенции к государству и праву, причем по последней проблеме основной является статья Кистяковского, с суждениями которого были согласны не только авторы сборника, но и некоторые из критиков сборника. Кистяковский стремился продемонстрировать и доказать, что пренебрежительное отношение к праву проистекает из низкой культуры общества, непонимания значения и роли права. Вместе с тем Кистяковский, в рамках неокантианской традиции (Наторп, Коген и др.), стремится вписать социалистическое движение в рамки правовой культуры – в этом отношении сходясь с Новгородцевым, который находил прогресс социалистического движения в немецкой социал-демократии и французском синдикализме как движениях, нацеленных на поиск правовых форм социалистических требований.
Последняя фигура исследования Валицкого, Сергей Гессен, находится за пределами заявленных хронологических рамок, поскольку его основные работы были созданы уже после революции 1917 года, в эмиграции. Но, по мнению Валицкого, его взгляды выступают логичным завершением эволюции философии права русского либерализма, в то же время непосредственно смыкаясь с современными дискуссиями, поскольку Гессену выпало участвовать в подготовке Всемирной декларации прав человека 1948 года. Будучи одним из наиболее ярких представителей русского неокантианства, Гессен стремится осмыслить право в рамках иерархической онтологии как находящееся между планом общественного бытия и планом духовной культуры, и в этой двуплановости находящей свое оправдание как то, что переводит в общественное бытие требования высшего онтологического уровня. Стремясь к синтезу разнонаправленных течений в рамках своеобразно проинтерпретированной диалектики, Гессен настаивает, что и так называемые позитивные права могут быть проинтерпретированы как «негативные», то есть классический либерализм по существу прав в своем понимании права как формы, рамки, накладываемой на социальное существование.
Выстраиваемая Валицким линия рассмотрения интеллектуальной истории философии права русского либерализма (Чичерин (классический либерализм) Вл. Соловьев (право на достойное существование) Петражицкий, Новгородцев, Кистяковский Гессен) определяется в первую очередь как движение «естественного права», и эта логика находит свою реализацию в возрождении естественного права с послевоенных лет в рамках в первую очередь движения прав человека. Но если Валицкий акцентирует преимущественно аргументацию «в защиту права» и непозитивистское правопонимание русского либерализма, то, по нашему мнению, не менее любопытен отмечаемый, но оставшийся за пределами концептуального анализа эпизод из интеллектуальной биографии
Гессена, когда тот в 1948 году, ничуть не противореча собственным взглядам, обосновывал систему прав сталинской конституции – итог, мало чем отличающийся от позитивистской юриспруденции. Стремление найти онтологические критерии и избежать релятивизма раз за разом оказывается надстраиванием онтологии над «существующим порядком вещей»: философия права слишком легко оказывается либо риторикой, либо «морализированием на темы права», поскольку лишена той самой плотной почвы правового порядка, основывающегося на юридическом позитивизме как строгой и точной технике истолкования и применения права. И философия права русского либерализма, глубоко анализируя суть проблемы – непризнание или сомнение в ценности права, непонимание места и роли права в социальной жизни, – в то же время не только неспособна утвердить то, ценность чего она осознает, но и неспособна обладать устойчивостью правосознания, оказываясь лишь интеллектуальным построением, а не жизненной практикой.
Революционный консерватизм
Все, что напишешь, становится потом отчужденной силой, которая обрушивается на тебя самого.
Мих. Лифшиц – В. Досталу (14.II.1971)
Лифшиц Мих. Varia. – М.: Grundrisse, 2010. – 172 с.
Лифшиц Мих. и Лукач Д. Переписка. 1931 — 1970 гг. – М.:
Grundrisse, 2011. – 296 с.
Лифшиц Мих. Письма В. Досталу, В. Арсланову,
М. Михайлову. – М.: Grundrisse, 2011. – 296 с.
Лифшиц Мих. Монтень. Выписки и комментарии. – М.:
Grundrisse, 2012. – 152 с.
Лифшиц Мих. О Гегеле. – М.: Grundrisse, 2012. – 304 с.
Принято говорить, что память – это то, что отличает культуру от иного состояния; собственно культура и есть постоянное усилие памятования, удержания того, что само по себе не может устоять, не имеет собственной силы, существуя только через регулярное восстановление. Двадцатый век для России оказался веком беспамятства – мы не только не удерживали в памяти то, что возможно было удержать, но нередко целенаправленно забывали, отменяли прошлое – ведь прошлое мысли, например, это не сами тексты, а то, что они значат в момент своего возникновения, значения слов, зафиксированные не в словаре, но в словоупотреблении данной группы – те же слова, сказанные теми же лицами спустя несколько лет, могут означать нечто совершенно иное, но для того, чтобы ориентироваться не на знаки как таковые, а на означаемое ими, необходимо помнить каждый раз о моменте времени и месте – о том, «где и когда» они были произнесены. Сергей Дурылин писал о «смешной теме – “история русской философии”» (В своем углу, III, 1). В этом отношении особенно не повезло «советской философии» – для постороннего взгляда уже современника часто казалось, что ее просто нет, а есть некая идеологическая «игра всерьез», феномен, имитирующий некоторые внешние стороны философии, но не имеющий внутреннего импульса, почти всецело определяемый извне. Статус «философских» имели шанс обрести преимущественно те тексты, которые определялись отрицательно по отношению к «советскому» – а– или антисоветские. Марксизм (не говоря уже о ленинизме), в особенности претендующий на ортодоксальность, был стигматизирован как нефилософский феномен – движение мысли охотно признавалось за разными марксистскими девиациями, вроде интереса к «молодому Марксу» и попыткам создать «марксистский экзистенциализм», правда, уже post factum существования экзистенциализма как такового, споры же внутри ортодоксии интересовали лишь в той мере, в которой их результаты могли усложнить или облегчить положение гетеродоксов. О специфическом беспамятстве Мих. Лифшиц писал:
...«До 1953 года мы жили в вечном сегодня. Оно началось с Октября, и, если происходили какие-нибудь изменения, нам хорошо известные, мы их не сознавали как страницы истории. Для этого были не только внутренние основания, в значительной степени иллюзорные. За этим вечным сегодня стояли грозные силы, которые не допускали мысли о том, что сегодня может иметь свою историю, что вчера оно могло быть в чем-то несовершенным, исторически относительным или вообще не равным себе. Ведь при таком допущении можно было бы найти в себе какие-нибудь критические доводы и по отношению [к] более конкретному и реальному сегодняшнему дню. Поэтому нужно было иметь плохую память. Резкие изменения курса жизни стирали одно поверх другого как записи на магнитной пленке, а пленка оставалась одной и той же. Внешность была такова, как будто все от века было одинаково и малейшие попытки внести какую-нибудь конкретность в это непрерывное присутствие, presence, казалось, режут ухо» (Varia, 138).