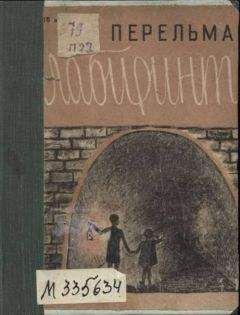Дэвид Маккалоу - Вечная тайна лабиринта
К путанице часто относятся без должного уважения, но на протяжении веков она веселила людей. И возможно, это не такой уж и пустяк.
Десять. Цель
«Лиса и гуси» — детская зимняя игра, в которую, возможно, и поныне играют где-нибудь в американской глубинке. Для нее нужен простор и много снега, и чем больше игроков — тем лучше. Правда, у игры никогда не было четко изложенных правил, поэтому в каждой местности они свои. Играют в «лису и гусей» на поле недалеко от дома. После того как выпадет снег, мальчишки и девчонки долго и усердно вытаптывают на нем путаницу с длинными спиралями, множеством поворотов и тупиков, где лиса сможет поймать незадачливого гусенка. Никакого устоявшегося узора здесь нет, ребята каждый раз строят лабиринт как вздумается, и с каждым новым снегопадом картина на поле меняется. Часто дальше строительства лабиринта игра не идет (ну, если не считать непрекращающегося швыряния снежками), но если она все-таки начинается, то «лиса и гуси» — не что иное, как снежная игра в салки. Выбирается одна «лиса», а все остальные становятся «гусями» и разбегаются от нее по кривым тропкам лабиринта. Всякий, конечно, хочет быть лисой. Как в арвильском лабиринте Майкла Эйртона, здесь есть два центра, хотя они совсем не обязательно расположены в середине. Один — это логово лисы, где пойманные гусята стоят в ожидании своей участи быть съеденными, а второй — гнездо, где гуси могут чувствовать себя в полной безопасности. Всех гусей, пойманных в логово, может освободить любой бесстрашный гусенок, который перехитрит лису и доберется до логова непойманным.
Семья Мэри Джейн Деуиз, которая работает теперь адвокатом в Вашингтоне, переехала в сельскую местность под Рочестером, штат Нью-Йорк, в 1970-х годах. Она помнит, как ее и ее братьев учила играть в «лису и гусей» местная фермерская семья, в которой в эту игру играли уже как минимум три поколения. «Это была очень быстрая игра, в ней нужно было много бегать, — вспоминает Мэри Джейн. — Но выигрывал обычно тот, кто хорошо запоминал направление тропинок». А когда снег был достаточно глубоким, можно было сесть на корточки и исчезнуть. «Все вокруг было белым-бело, лиса совершенно ничего не могла разглядеть». За долгую зиму, если не случалось сильной оттепели и если эта затея не успевала всем наскучить, лабиринт мог разрастись на все пастбище. «Самые лучшие тянулись на многие акры, — говорит Деуиз. — И можно было срезать дорогу в таком месте, о котором никто другой не знал».
Игра в «лису и гусей» наглядно демонстрирует древнюю загадку лабиринта с его блуждающей дорогой к спасению или, по крайней мере, к покою. Игру можно рассматривать как аллегорию, в которой лиса — либо ненасытный дьявол, либо — как у Фрэнсиса Томпсона — «небесная гончая», которая преследует нерадивого верующего «сквозь ночи и дни… сквозь нелегкие годы… по коварной тропе лабиринта». Но что противоречит духу лабиринта, так это хаос засыпанной снегом дорожки, отсутствие в ней порядка. Традиционно и лабиринты, и большинство путаниц были примечательны своей «бесстрашной симметрией» — если воспользоваться словами еще одного поэта. Совсем в другом контексте современный философ лабиринта Зиг Лонгрен сказал: «Лабиринты суть не что иное, как зеркала». Мэри Уоттс, разъясняя иконографию своей часовни, цитировала Книгу премудрости Соломона, сына Сирахова: «Все они — вдвойне, одно напротив другого»[55]. На протяжении большей части своей долгой истории одна сторона лабиринта всегда являлась почти точным отражением другой — идеально пропорциональная геометрическая фигура. Форма, чье название, как это ни парадоксально, стало синонимом смятения и сложности, на деле представляет собой образец безупречного порядка.
Во многом здесь заслуга средневекового благоговения перед священной геометрией. В Средние века люди полагали, что мир возник из «гармонии, божественной гармонии», и как говорится в часто цитируемой фразе Августина Блаженного: «Ты все расположил мерою, числом и весом», которую он, в свою очередь, нашел в Книге премудрости Соломона. И разве Соломон не был человеком, прекрасно знакомым с геометрией? Бог был прекрасным математиком, об этом свидетельствовали все числа и измерения, и к ним ко всем относились с предельной серьезностью. В Шартре, как мы уже знаем, все буквально пронизано числовым и геометрическим символизмом. Число 4 и квадрат символизируют собой человеческое и земное, в то время как 3 и круг — символы божественные. Сочетания трех и четырех (в сумме — семь, а умноженные друг на друга — двенадцать), соединяющие человека с его божеством, наделяются особой значимостью. Одиннадцать кругов лабиринта символизируют греховность, но вместе с центральным кругом, на который попадаешь, добравшись до цели, кругов получается уже двенадцать — торжествующее число апостолов, месяцев, колен Израилевых, знаков зодиака и бесчисленного множества других хороших вещей. Что же касается пропорций, то в шартрском лабиринте, согласно измерениям Роберта Ферре, преобладают числа 3 и 4. Диаметр центрального круга составляет одну четверть полного диаметра лабиринта. Круги, образуемые каждым лепестком в центре, — это одна треть его диаметра. Ширина дорожки — одна треть диаметра лепестков. Зубцы-лунации отстоят друг от друга на расстояние, равное ширине дорожки. Таких зубцов 112 — четыре 28-дневных месяца лунного календаря. И так далее, и так далее — безупречный порядок.
Но подобная опрятность вовсе не была христианским нововведением. Первые лабиринты, нацарапанные на стенах гробниц, хотя и были неточными, могли похвастать такой же симметричностью, как и монеты Кносса, или римские мозаичные полы, или граффити в Помпеях, или tapu'at племени хопи, или «чакра въюха» из Майсура, или садовый лабиринт в Хэмптон-Корте. В одном из ранних описаний явления под названием «лабиринт» древнегреческий географ Страбон отмечал: то, что кажется запутанным на уровне земли, сверху выглядит намного более осмысленным.
Тони Филлипс, современный математик, увлекающийся лабиринтами, не видит в геометрии ровным счетом ничего божественного. Классический критский лабиринт — это всего лишь простой чередующийся транзитный лабиринт — сокращенно ПЧТ. По определению Филлипса, транзитный лабиринт — это такой, который движется от внешней стороны к центру без ответвлений. А «чередующийся» — означает, что на каждом новом круге или уровне тропа изменяет направление. Классический критский лабиринт прост, потому что за время транзита извне вовнутрь идущий оказывается на каждом кругу всего однажды. (Критская последовательность кругов начиная с внешней стороны — 3, 2, 1, 4, 7, 6, 5, 8.) Большие дуги перемахивают, ничем не прерываемые, с одной стороны лабиринта на другую. Шартрский лабиринт не так прост, потому что его рисунок разделен на четверти, и есть четыре места, в которых может происходить смена направления. А это означает, что человеку, который движется с внешней стороны лабиринта, приходится посетить каждый круг не единожды, а целых четыре раза. И все же, простой это лабиринт или нет, геометрическая гармония сохраняется в нем всегда.
Образы лабиринта, как стенографические изображения сомнения и смятения, до того элегантны и просты, что их часто берутся имитировать. Но без особой точности. Постоянные жалобы лабиринтовых пуристов на то, что такой-то рисунок не является настоящим лабиринтом, способны утомить кого угодно, но вообще-то им есть чем возмущаться. Представление о лабиринтах как об аккуратных символах хаоса до того привлекательно, что сплошь и рядом встречаются неверные их интерпретации. То, что форма привлекает такое большое число самозванцев — даже если их вина непреднамеренна, — достойно упоминания уже само по себе. Простой таксист, продирающийся сквозь поток машин и паутину улиц с односторонним движением, чтобы добраться до железнодорожного вокзала, жалуется на то, что это не город, а какой-то лабиринт. Но и видный ученый может полагать, что видит традиционные европейские лабиринты в завитках, украшающих древнюю гробницу. Фирмы-гиганты тратят целые состояния на то, чтобы уберечь названия своих фирменных брендов — таких как «Скотч», «Ксерокс» или «Памперс» — от потери заглавной буквы и распространения на целую группу товаров этого же типа. С лабиринтами — да и с путаницами тоже — фактически произошло то же самое. Скрытая в них идея порядка в хаосе умиротворяет. Называя что-либо лабиринтом, можно чувствовать себя уверенным в том, что где-то там, внутри него, на самом-то деле скрывается решение проблемы. Надежда на то, что решение найдется, подразумевается, — в конце концов, ведь все мы живем надеждой.
Сады с узловыми клумбами и кустами, как мы уже увидели, тоже часто называют лабиринтами — равно как и многие другие садовые конструкции. Фактически, лабиринтом называют любую часть сада, в которой есть хотя бы слабый намек на тропинки — например, цветочные клумбы, выложенные концентрическими кругами, которые были так популярны в XIX веке. Хорошо сохранившийся образец такой клумбы с посаженным посередине деревом магнолии, был создан, вероятнее всего, в 1840-х годах и находится во дворе дома Уильяма Фолкнера — в Оксфорде, штат Миссисипи. Здешние жители рассказывают, что «лабиринт» весь порос травой, когда Фолкнеры купили дом в период первого успеха писателя. Миссис Фолкнер уговаривала мужа привести лабиринт в порядок, но он отказался, заметив: «Этот сад погубят лишь новые деньги».