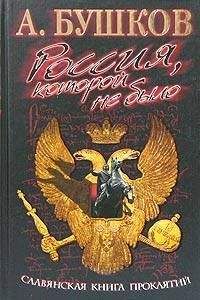Иван Калинин - Русская Вандея
«Страшной болезнью заражены все… Молоденький адвокат негодует: «Реакция… реставрация… отсутствие духовной жизни, — а через пять минут признается: — Я собственно теперь занялся мылом… Скоро привезут вагон… Скупаю царские, всего надежней».
В Киеве вошел в еврейскую квартиру один из идейных противников адвоката и закричал: «Христа распяли! Россию продали! — а потом сразу деловито спросил: — Этот портсигар серебряный?» — и поместил оный в свой карман. Писатель говорит: «Написать статью против большевиков можно… Сколько за строчку? Мало… Не хочу… Большевистские газеты больше платили». А крестьянин прячет хлеб от умирающих беженцев, лучше сгноит его, чем отдаст на один рубль дешевле».
Спекулянт (этим именем подчас звали всех торговцев) наживался в то время, когда белый солдат защищал арену его свободной деятельности. И тот же спекулянт, когда требовали от него жертв на общее дело, отказывался, а в случае реквизиций исступленно кричал:
— Чем же вы лучше большевиков?
Такие словечки слыхал не один И. Эренбург.
Когда ранней весной 1919 года советские войска подбирались к стольному Новочеркасску и богатому Ростову и когда эпидемии косили не только бойцов, но и мирное население, «зеленый» город встрепенулся от испуга. Купечество, фабриканты, владельцы разных предприятий решили отвалить на борьбу с эпидемиями 25 миллионов (конечно, не золотом), разложив эту сумму между собой!
Особая комиссия занялась сбором денег.
Пока то да иное, а весна сменилась дождливым летом, неустойка на фронте — победою. Паника улеглась, а вместе с нею пошел на понижение и патриотический порыв г. г. капиталистов. 25 миллиончиков, по курсу золота, теперь тоже понизились этак раз в шесть-семь. Но и теперь донское правительство, осилив кое-как эпидемии, никак не могло справиться с жертвователями, не желавшими исполнять своего обещания.
Надвигалась уже осень 1919 года. Деньги все более падали в цене.
Жертвователям назначили последний срок — 23 августа. Но они и 23 сентября не внесли своей лепты.
Атаману представили часть списка именитых граждан и богатейших фирм, отказавшихся внести деньги. Он опубликовал в газетах этот документ и разразился укоризненным приказом:[195]
«Добрый порыв богатых ростовских и нахичеванских обывателей, под влиянием страха эпидемий и нашествия большевиков и благодарности Донской армии за избавление их от последней неприятности, давно уже прошел и обещанные ими по самообложению на нужды армии и борьбу с эпидемией 25 миллионов рублей, несмотря на все усилия комиссии по сбору этих денег, все еще не собраны, хотя уже прошло много времени после того, как об этой щедрой лепте было объявлено всем и каждому. Дело приняло странный оборот: сгоряча наобещали много, а когда настало время расплаты, — гг. благодетели стали уклоняться всеми способами от исполнения своего обещания. До меня дошло жалобное прошение от хозяина одной из богатейших гостиниц г. Ростова, обязанного распределительной комиссией уплатить 20000 руб., уверявшего, что не может уплатить этих денег, так как вся обстановка его дома не стоит этой суммы, и ни слова не упомянувшего, какие колоссальные барыши получает он от кутежей г. г. спекулянтов и посетителей его ресторана, вынужденных платить сотни рублей за скромный обед.
Некоторые учреждения на страницах газет доказывают, что они и без того много жертвуют на нужды армии, а потому считают обязательство уплатить свою долю раскладки — насилием. Наконец, у всех перед глазами позорный список с именами тридцати именитых граждан и фирм, не пожелавших уплатить свою, ничтожную по их средствам, долю к последнему сроку — 23 августа; в конце этого списка стоит примечание: «продолжение следует».
Пора кончить эту недостойную комедию. В ней затронуто достоинство власти, в распоряжение которой должны быть переданы собранные на благое дело средства. Никто не заставлял вышеуказанных лиц обещать что-либо дать на общую пользу, но раз обещано, должно быть исполнено.
До меня дошло циничное замечание некоторых толстокожих г.г. коммерсантов: «Пусть атаман прикажет, тогда мы уплатим». Сожалею, что приходится прибегать к более, видимо, приятным этим господам большевистским способам воздействия, а потому приказываю: к 18 октября всем лицам, фирмам, заведениям и учреждениям, принявшим участие в самообложении и еще не внесшим назначенную с них сумму, внести свою долю в распоряжение комиссии, ведающей этим делом. Список лиц, не пожелавших все-таки исполнить своего обещания, с указанием их общественного положения, состояния и суммы раскладки, представить мне к 21 октября сего года для принятия соответствующих мер».
Чем кончилось это состязание атамана с жертвователями, я не помню. Но если «именитые граждане» и внесли деньги, то когда они уже совершенно обесценились. О «большевистских приемах воздействия», во всяком случае, слышать не приходилось; надо полагать, атаман не рискнул прибегнуть к ним.
В г. Александровск-Грушевске, недалеко от Новочеркасска, произошла еще более чудесная история с одним патриотом-жертвователем.
Здесь проживал некий ловкий человечек Ф. И. Малахов. Он торговал всем, что попадало под руку, от ржавого железа и раздорского вина до церковных хоругвей включительно. В эпоху белых уже причислял себя к лику миллионеров.
Этот буржуйчик очень любил жертвовать.
— Партизаны… Спасители отечества! — со слезами радости встретил он весною семилетовских партизан, которые явились к нему с просьбой пожертвовать что-либо для их благотворительного вечера.
— Как же, как же, родные! Орлы! Я ведь сам донец, патриот до мозга костей. Извольте, извольте, милые. Сейчас вам на складе отпустят два ведра вина. Защитнички вы наши.
Партизаны не знали, как благодарить щедрого жертвователя.
На другой день в штаб отряда принесли письмо от Малахова. Вскрыли и с изумлением прочли:
«Прошу уплатить за отпущенные для отряда два ведра вина, по 00 руб. за ведро, всего 00 руб.».
Летом 1919 года гимназия в станице Раздорской расширялась. Возникла необходимость в новых постройках. К кому обратиться как не к Ф.И. Малахову! Местное вино скупает тысячами ведер; еще молодое, едва скисшее, а берет и хорошо платит. Этот не откажет в помощи станице, с которой связан торговыми делами.
— За честь не знаю как благодарить, станичнички… Порадовали… Да я с руками и ногами… Дом бы свой отдал под гимназию, будь это в Раздорах. Хоть сам не учен и деток не имею, а все же понимаю: ученье свет! 10000 кирпичей, так и быть, жертвую; есть у меня, закуплены. Поезжайте с богом в Раздоры. В скорости пришлю… Просветители вы нивы народной… Сейте разумное, вечное.
Обрадованная администрация гимназии начала ждать малаховских кирпичей. Ждет и по сие время.
Надвинулась зловещая осень 1919 года. Объявили сбор теплых вещей для фронта.
Малахов поет по-весеннему:
— Господи! да ведь защитничкам-то нашим ничего не жаль. Все отдам, не пожалею, последнюю рубашку сыму. Вот тут девяносто просоленных овчин. Какие полушубочки-то выйдут христолюбивым воинам, любо-дорого.
Комиссия по сбору теплых вещей осмотрела овчины, записала их на приход и временно оставила дареное добро в складе Малахова па хранение.
— Так уж вы, батюшка ваше превосходительство, не оставьте моей просьбицы без уважения, — униженно кланялся он через день начальнику гарнизона ген. Полякову. — Так и опишите господину атаману, что от Малахова девяносто просоленных овчин. На полушубки защитникам Тихого Дона. Хорошо бы и в газетах пропечатать. Не для моего восхваления, а чтобы это послужило примером александровско-грушевским толстосумам, которые уклоняются от всяких пожертвований на армию. Большевики поступали с ними иначе, и они давали.
Прошло две недели. Комиссия прикатила к Малахову за овчинами.
— Овчины, вы говорите? Овчины, овчины? Я чтой-то забыл? Ах, эти… Вспомнил теперь. Так, только знаете, господа, какая штука-то. Я их точно хотел пожертвовать, да пришлось переиначить, видит бог, против своей воли. Есть у меня один добрый человечек, племянничек. Приехал из Ростова и давай просить, пристал как банный лист. Почти сам, своей волей, забрал их и увез в Ростов. Нету овчин, нету. Напрасно побеспокоились.
Председатель комиссии Н. Г. Харчевников попробовал пристыдить и урезонить скареда.
— Не могу-с… Которые есть овчины на складе, это не те, другие. Те, ей-богу, увез племянник.
— Мы у вас обыск сделаем. Силой отберем то, что вы обещали. Знаете, давши слово — держись!
— По-большевистски, значит, поступить хотите? Дело ваше. Только стыдно это, господа. Стыдно унижать донца, патриота своего казачьего отечества. Весь город знает, сколько я вытерпел за Тихий Дон да за матушку Русь великую, неделимую. Большевики разграбили мое добро, в тюрьму сажали, заставляли копать могилы для тифозных покойников…