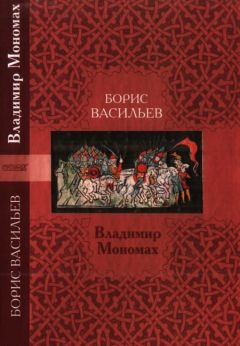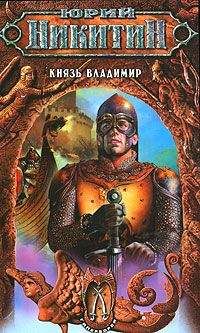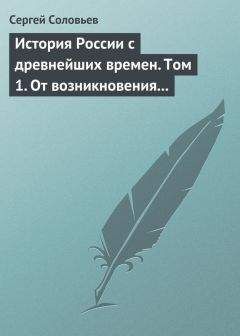Александр Сидоров - Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга первая (1917-1940 г.г.)
Во-вторых, лютые чекисты, видя сопротивление «воровского мира», повели себя жестоко. Без особых церемоний они создавали из «блатарей» так называемые РУРы — роты усиленного режима. Такие роты действовали ещё на Соловках для устрашения арестантов. Но в период «трудовой перековки» этот опыт особенно пригодился. РУРы были изолированы от основной массы заключённых и состояли исключительно из уголовников. Штрафной паёк, холодные шалаши и палатки: хочешь — вкалывай, обустраивайся, зарабатывай пожрать. Не хочешь — подыхай. Работаешь — из РУРа переведут в обычную бригаду.
Вообще на первых этапах индустриализации отношение чекистов к уголовникам было достаточно прохладным. Опирались прежде всего не на «социально близких», а на «классово близких». Именно они могли рассчитывать на самые серьёзные поблажки. Так, 12 апреля 1930 года Генрих Ягода, в то время заместитель председателя ОГПУ, даёт следующее указание своим подчинённым (товарищам Бокию, Шанину, Эйхмансу и прочим деятелям лагерной системы):
Надо быстрейшим темпом колонизовать Север. Заключённых перевести на поселковое положение до отбытия срока наказания. Надо сделать так: группе (1500 чел.) отборных заключённых в разных районах дать лес и предложить строить избы… Посёлок от 200 до 300 дворов. Управляется комендантом. В свободное время, когда лесозаготовки окончены, они (заключённые), особенно слабосильные, разводят огороды, свиней, косят траву, ловят рыбу, первое время живя на пайке, потом — за свой счёт. К ним присоединить ссыльных, которых также включить в посёлок.
Енох Гершонович Иегуда, он же Генрих Григорьевич Яго´да.Начальник управления лагерей Л. И. Коган принял меры для воплощения идеи в жизнь. И что интересно: колонистами-поселенцами становились в подавляющем большинстве выходцы из рабочих и крестьян, осуждённые за бытовые преступления! Из осуждённых по уголовным статьям «вольную» получали лишь те, кто мог вызвать в район колонизации членов семьи! Другими словами, люди, не потерявшие своих социальных связей. Таким образом, «блатные» лишались такой льготы (как мы помним, они не могли, согласно своим «понятиям» и «правилам», обзаводиться семьёй и поддерживать родственные связи).
Наконец, в-третьих, нельзя сбрасывать со счетов мощную пропагандистскую кампанию по обработке «воров» и других уголовников, которая велась чекистами постоянно и бесперебойно. Громкие похвалы, значки ударников, выдвижение на руководящие зэковские должности (не говоря уже о системе зачётов рабочих дней, которая позволяла выйти из лагеря значительно раньше срока) — всё это способствовало «искушению» жуликов.
И многие уголовники не выдержали: пошли «пахать» наравне с «мужиками», а нередко — опережая их! В этом, кстати, нет ничего странного. Впоследствии это повторится не однажды, в том числе и в послевоенном ГУЛАГе. По свидетельствам многих зэков, даже «воры», оказавшись в условиях, когда приходится выбирать между работой и «доходиловкой», то есть медленной смертью, выбирали работу — и вкалывали так, что пар из ушей шёл (см., например, воспоминания Льва Копелева). То же самое случилось и в особлагах, где «блатные» оказались в меньшинстве и не могли «держать масть» за счёт других арестантов. Ян Цилинский вспоминает:
Авторитетный вор по кличке Колечка, забыв былое величие и превратившись в презренного фраера, грузил медную руду в вагонетки. При попытках поднять голову блатари подвергались избиению. Военнопленные ограничивались зуботычинами, а бандеровцы били зверски и до полусмерти. («Записки прижизненно реабилитированного»)
Правда, в отношении 30-х годов следует сделать существенное замечание. Да, за работу брались многие «урки». Но, видимо, это не относилось к тем, кто прошёл обряд «коронации» и стал «честным вором». Не случайно и в это время, и позже в лагерях было так много отказчиков от работы среди уголовников. Эти — отчаянно, из последних сил сопротивлялись «перековке», придерживаясь жёстких норм «воровского закона» (в конце концов для многих из них это окончилось печально. Но об этом — позже, в главе о «ежовых рукавицах» полковника Гаранина).
Автор настоящего исследования не может в полной мере согласиться с выводами Солженицына о том, что якобы все «урки» в 30-е годы на «стройках социализма» занимались только тем, что «заряжали туфту» и нещадно эксплуатировали остальных зэков при полном попустительстве чекистов. Наверняка в конце концов дело к этому и свелось. И быть иначе не могло. Потому что надо же было чекистам-воспитателям рапортовать о том, что их старания по «перековке» «блатарей» увенчались успехом! Потому что многочисленные инструкции требовали оказывать доверие уголовникам-рецидивистам. Потому что пособия-монографии (например, Иды Авербах, которую часто цитирует Солженицын) призывали «использовать лучшие свойства блатных» — романтику, азарт, самолюбие, разжигать классовую ненависть к кулакам и контрреволюционерам.
Однако, прежде чем опереться на «блатной актив», лагерная администрация должна была чётко указать «уркам» их место. Да, чекистам надо было опереться на «блатарей» — но не на «блатарей» независимых, живущих по своим, «воровским» «понятиям», а на жуликов, принявших правила игры в «перековку». Сначала ты обязан признать, что исправился, стал «новым человеком». И лишь тогда отношение к тебе будет особое.
Пока «воровской» мир не понял этих правил и упорствовал, стоя на своём («я честный вор, тяжелее кошелька ничего в руках не держал!»), — до тех пор чекисты гнули его и ломали. И напрасно Александр Исаевич иронизирует по поводу некоторых отрывков из книги о Беломорканале. Сочинение действительно мерзкое. Однако и из него можно кое-что почерпнуть. Например, Солженицын с издёвкой цитирует слова одного из работяг-«блатарей»: Скалы у нас такие, что буры ломаются. Ничего, берём». И тут же саркастически вопрошает: «Чем же берут? И кто берёт?». Развивая далее мысль о том, что «блатные» вкалывать ни за что не будут, а заставляют они «фраеров».
Лазарь Коган.Но на самом деле заставлять-то было некого! Это видно даже из цитируемого отрывка:
Высокий парень в бушлате подходит к столу:
— Мы — бурильщики телекинских скал. Скалы у нас такие, что буры ломаются. Ничего — берём. Коллектив наш насквозь шпанский — ничего твёрже сахара не грызли…
…Губатого сменяет пожилой человек в потрёпанном красноармейском шлеме:
— Привет ударному слёту от коллектива «Перерождение»! В нашем коллективе почти все — бывшие токаря по хлебу, слесаря по карману. Приехали в эту трущобу — панихиду запели: пропадём на камнях. Но потом взялись за ум. Дорог наделали. Бараков настроили. Трудновато приходится, но ведь мы никогда не работали…
Тачколазы на Беломорканале.С трудом верится, чтобы авторы специально придумывали бригады из уголовников — ради красного словца. Изучение организации работ на Беломорканале (без оценок и комментариев) подтверждает, что существовало много бригад исключительно из уголовников и жуликам нередко приходилось махать кайлом не меньше других.
Конечно, было и другое: отдельные кухни для бригадиров-«блатарей» с усиленным пайком; воровство и грабежи; издевательства «блатных начальничков» над зэками из «кулаков» и «контриков»… Правда, было это уже значительно позже. После того, как «блатное братство» доказало свою лояльность и «перевоспитание».
«Канает Колька в кожаном реглане…»
Мы уже отмечали, что далеко не все «уркаганы» и на Беломорканале (который громогласно был разрекламирован сталинской пропагандой как пример «воспитательной силы» лагерей), и на других зэковских стройках, и тем более на воле поддержали «трудовой почин» «блатных» ударников. Такие работяги были объявлены «гадами», отступниками, предателями. Соответственно этому с них и спрашивали.
Одно из косвенных свидетельств такого отношения «честняков» к «сломавшимся» собратьям донёс до нас блатной фольклор. Мы имеем в виду, конечно же, знаменитую песню «На Молдаванке музыка играет»:
На Молдаванке музыка играет,
Кругом веселье пьяное шумит,
А за столом доходы пропивает
Пахан Одессы Костя-инвалид.
Сидит пахан в отдельном кабинете,
Марусю поит розовым винцом,
А между прочим держит на примете
Её вполне красивое лицо.
Он говорит, закуску подвигая,
Вином и матом сердце горяча:
— Послушай, Маша, детка дорогая,
Мы пропадём без Кольки-Ширмача.
Торчит Ширмач на Беломорканале,
Толкает тачку, стукает кайлой,
А фраера вдвойне богаче стали —
Кому их щупать опытной рукой?!
Езжай же, Маша, милая, дотуда,
И обеспечь фартовому побег.
Да торопись, кудрявая, покуда
Не запропал хороший человек!
Маруся едет в поезде почтовом,
И вот она у лагерных ворот.
А в это время зорькою бубновой
Идёт весёлый лагерный развод.
Канает Колька в кожаном реглане,
В лепне военной, яркий блеск сапог…
В руках он держит важные бумаги,
А на груди — ударника значок.
— Ах, здравствуй, Маня, детка дорогая,
Привет Одессе, розовым садам!
Скажи ворам, что Колька вырастает
Героем трассы в пламени труда!
Ещё скажи: он больше не ворует,
Блатную жизнь навеки завязал.
Он понял жизнь здесь новую, другую,
Которую дал Беломорканал!
Прощай же, Маня, детка дорогая,
Одессе-маме передай привет!
И вот уже Маруся на вокзале
Берёт обратный литерный билет.
На Молдаванке музыка играет,
Кругом веселье пьяное шумит,
Маруся рюмку водки наливает,
Пахан такую речь ей говорит:
— У нас, жулья, суровые законы,
И по законам этим мы живём.
И если Колька честь свою уронит,
Мы Ширмача попробуем пером!
Тут встала Маня, встала и сказала:
— Его не троньте — всех я заложу!
Я поняла значение канала,
За это нашим Колькой я горжусь!
Тут трое урок вышли из шалмана
И ставят урки Маньку под забор.
Умри, змея, пока не заложила,
Подохни, сука, или я не вор!
А в тот же день на Беломорканале
Шпана решила марануть порча´,
И рано утром, зорькою бубновой,
Не стало больше Кольки-Ширмача.
Не так много уголовных песен посвящается конкретным историческим событиям. Но уж если посвятили — значит, оно того стоило…