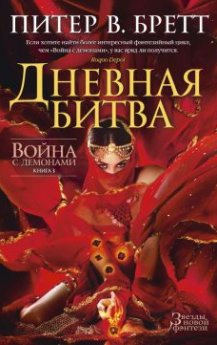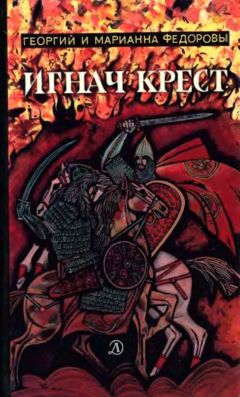Георгий Фёдоров - Дневная поверхность
Как–то, оглядывая профиль раскопа и разбивая комки земли на квадрате, я обратил внимание на то, что изменился характер строительного мусора в земле. До определенного уровня он состоял из обломков кирпича и щебенки, а ниже — из обломков камня и каменной крошки. Я сказал об этом Сирене Авдеевне, но она сердито мне ответила:
— Опять вы отвлекаетесь от дела. Снова забыли, что нужно работать тщательно!
Однако она меня хотя и обескуражила, но не убедила. В свободное время я осмотрел профили раскопа по всем квадратам и убедился, что строительный мусор изменился всюду. Я поделился этим наблюдением с Шурой, и мы вместе осмотрели все четыре раскопа: всюду на определенном уровне кирпичная щебенка сменялась камнем. Тогда после долгих колебаний я решил нарушить субординацию и обратиться прямо к профессору, хотя это и было нам строжайше запрещено Сиреной Авдеевной.
Дождавшись, когда профессор пришёл на наш раскоп, я бросил лопату, вылез наверх и под ледяным взглядом Сирены Авдеевны все рассказал ему.
Профессор молча слез в раскоп, взял лопату, прошёл по всему раскопу, зачищая профиль и разбивая комки земли под ногами. Потом он вылез и так же молча ушёл на другие раскопы. Озадаченный, я пропустил мимо ушей язвительный выговор, сделанный мне Сиреной Авдеевной, и взялся за лопату. Но через полчаса профессор снова появился у нас. Тем напряжённым от сдержанного волнения голосом, который мы привыкли слышать на лекциях, он сказал:
— Остановить работы. До 1478 года Новгород Великий был независимым. Существовала замечательная школа новгородских архитекторов и зодчих. Они строили дома в соответствии с вековыми традициями из местного камня. Московский князь Иван Третий разбил новгородское ополчение, разогнал вече, включил Новгород в состав Московского государства. Новгородская республика исчезла, зато укрепились могущество и сила всей Руси. «Город дум великих, город буйных сил, Новгород Великий тихо опочил». В Новгород приехали новые хозяева — московские бояре и приказные дьяки. Они всё стали переделывать на свой лад. Строить тоже стали по–московски — из кирпича. Там, где в культурном слое камень сменяется кирпичом, — граница вольности Великого Новгорода. Ниже этой границы — вольный Новгород, выше границы — Новгород, вотчина московских князей. И эту границу открыли ваши товарищи…
Тут он назвал наши с Шурой фамилии. Я почувствовал, что ноги у меня приросли к земле, стали какими–то ватными, а дыхание перехватило. Я знал: пусть будет что угодно, сто Сирен Авдеевн, сколько угодно самой тяжёлой землекопной работы — я буду археологом. Ради этого стоит вытерпеть все, ради этого и стоит жить на свете.
Встретившись глазами с Шурой, я понял, что и он охвачен теми же чувствами. И, когда через несколько дней из земли медленно показались огромные дубовые плахи мостовых, которыми была замощена торговая площадь, мы восприняли это как награду за первый месяц тяжёлого труда. Тут пригодилось и умение копать, и делать сверхтщательную расчистку — результат великого монгайтовского движения.
Массивные поперечные плахи — тесины из темно–коричневого дуба — скреплялись продольными лагами. Во влажной, полной органических солей почве Новгорода мостовые сохранились изумительно. Топор звенел и отскакивал от несокрушимых плах. Мостовые казались вечными. Но увы, это было не так. Стоило плахам пролежать на открытом воздухе под лучами солнца три–четыре часа, как они начинали высыхать, коробиться и в конце концов превращались в труху. Чтобы предотвратить это разрушение, приходилось сразу лее после расчистки заливать мостовые формалином. Я этим и занимался, не без некоторых, однако, неприятных воспоминаний. Нашли своё объяснение и коровьи челюсти, и другие плоские кости, которые в изобилии попадались на раскопе. Под каждым ярусом мостовых они лежали ровным плотным слоем. В зыбкой, болотистой почве Новгорода мостовые быстро выходили из строя. Чтобы укрепить почву и предохранить мостовые от гниения, со всех новгородских боен свозили кости животных, выбирая для удобства самые плоские и прочные, а такими и были прежде всего коровьи челюсти. Их подкладывали в качестве фундамента под мостовые.
А вот и новое открытие: на соседнем раскопе открыли водопровод. Впрочем, впоследствии ряд археологов утверждал, что это был водоотвод. Но для моего рассказа это не столь существенно. Круглые деревянные трубы на стыках скреплялись слоем бересты. Отстойниками служили большие дубовые бочки. Вода шла самотёком к княжескому двору из лежащих выше ключей. Когда мы приложили ухо к трубе, то услышали журчание воды. Водопровод был построен в XI веке. С тех пор прошли многие сотни лет. Давно исчез княжеский дворец, изгнан был князь из Новгорода. Над водопроводом наросла пятиметровая толща строительного мусора. А вода все текла и текла. Она тихо журчала и пела о далёких, давно ушедших временах. В скользкой тёмной трубе мы проделали маленькую дырочку, вставили в псе соломинку и по очереди пили холодную, чистую влагу.
На мусульманском Востоке есть поговорка: «Кто попробовал воду из Нила, будет вечно стремиться в Каир». Может быть, это и так. Но твёрдо я знаю одно: кто пил воду из новгородского водопровода, раскопанного тогда нами, тот навсегда стал археологом. Мы твёрдо выбрали свой путь и не променяли его ни на какой другой.
ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ
Первый в своей жизни Открытый лист я получил после нового сезона полевых работ Новгородской экспедиции. В Открытом листе было написано, что он выдан Институтом истории материальной культуры Академии наук СССР (так тогда назывался наш Институт археологии) т. Фёдорову Г. В. на право производства археологических раскопок курганной группы у села Деревлево, Московской области.
Далее следовало, что на основании соответствующего постановления Совета Народных Комиссаров СССР всем органам советской власти, государственным и общественным организациям и частным лицам надлежит оказывать всемерное содействие т. Фёдорову в интересах пауки к успешному выполнению возложенных на него поручений.
Это был уже второй «наш» — студенческий Открытый лист. Первый получил Шура. Но мы ещё никак не могли к ним привыкнуть.
Когда мой Открытый лист рассматривали товарищи, я, делая по возможности равнодушное лицо, занимался разными делами. Зато дома я то и дело вынимал его из стола, якобы для того, чтобы определить степень моих полномочий и убедиться в правильном оформлении, хотя давно уже знал наизусть каждую строчку этого знаменательного документа.
В раскопках курганов мне уже приходилось принимать участие. Под руководством нашего профессора мы раскапывали курганы у села Салтыковка; под началом Шуры я работал землекопом на раскопках курганов у села Черёмушки, среди довольно густого леса, там, где сейчас находится Юго–Западный район столицы.
Уже не один десяток курганов перекопал я своими руками и все же теперь очень волновался. Одно дело принимать участие, в раскопках, другое дело — ими руководить. Я снова перечитал книги о курганах вятичей, радимичей и других восточнославянских племён.
У села Деревлева мы обнаружили около полутора десятков курганов. Это были классические подмосковные средневековые курганы. Насыпи имели форму полушария, вокруг подножия кургана ровик и небольшая перемычка — словом, все как надо. И все же меня мучили сомнения, делиться которыми, я, как руководитель раскопок, не считал возможным даже со своими товарищами. Впрочем, с Шурой я все же делился.
— Шура, — начинал я, — а вдруг это не курганы?
— А что это, по–твоему? — Лениво отвечал Шура.
— Ну, просто кто–нибудь насыпал холмики земли.
— Вот именно просто, специально, чтобы нас обмануть.
— Ну хорошо, — не сдавался я. — А если эти курганы насыпаны в память погибших где–нибудь на чужбине? Ты ведь знаешь, такие курганы сооружали. Тогда они совершенно пусты.
— Знаешь что, — отвечал Шура, — не морочь голову. Если все они погибли на чужбине, то кто же соорудил для них эти курганы и кому нужны были памятные курганы, если все где–то погибли? Отстань!
После таких разговоров мне становилось легче, и я чувствовал себя увереннее.
Наконец наступил день начала раскопок. В рабочих руках недостатка не ощущалось. Все мои товарищи, студенты–археологи, в том числе и Шура, который до этого был начальником раскопок на другой курганной группе, превратились в землекопов.
Доехав на автобусе до конечной остановки, мы долго ещё месили ногами грязь по глинистому просёлку, нагруженные нехитрым нашим снаряжением. Когда мы, наконец, добрались до курганной группы, пошёл мелкий моросящий дождь. Была поздняя осень, и было ясно, что дождь зарядил надолго. Посовещавшись, мы решили считать, что дождя нет.
План курганной группы мы сняли заранее, измерив и пронумеровав курганы. Теперь же, до того как приступить к раскопкам, нужно было найти место, где можно было бы хранить инструменты да и самим погреться и перекусить. Впрочем, выбирать не приходилось. Курганная группа была расположена довольно далеко от села. Возле неё стояла только одна изба с покосившимся плетнем, окружающим пустой, перекопанный уже огород. Туда мы и направились. На стук никто не отозвался. Когда мы все же отворили дверь и вошли, из–за дощатого почерневшего стола навстречу нам поднялся тощий старик в косоворотке, с бритым подбородком и огромными усами. Усы были пышные и вислые, как у Тараса Шевченко. Кончики их почему–то позеленели, только под носом сохранился их природный рыжий цвет, а так усы были совершенно седые.